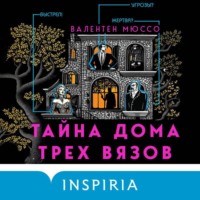Полная версия
Безмолвная ярость

Валентен Мюссо
Безмолвная ярость
Valentin Musso
QU’À JAMAIS J’OUBLIE
© Éditions du Seuil, 2021. Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates
© Клокова Е.В., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *

Нырнуть…
Ощутить, как тело рассекает дрожащую поверхность бассейна, и тут же возродиться, чудесным образом скользнуть под воду, проплыть параллельно дну, быстро замедлить движение и сразу ускориться одним движением ног, задержать дыхание на сколько получится, пока не почувствуешь, что грудь разрывается от недостатка воздуха, потом медленно всплыть: а вдруг что-то помешает подняться на поверхность и неумолимо потянет вас на дно… Она, конечно же, выныривает, сплевывает хлорированную воду, делает несколько взмахов, прежде чем снова нырнуть.
Детский смех она теперь слышит как сквозь вату. Глаза щиплет. Она различает болтающиеся ноги возле ярко-красного дна надувного матраса. В воде она уже через несколько секунд неизменно обретает девичью ловкость, как будто тяжесть прожитых лет теряет власть над ее телом. Окружающий мир меркнет, бассейн в отеле на юге Франции уже кажется ей не вполне реальным.
Озеро… Ей шестнадцать лет. Мерцание воды. Светлые волосы и загорелая кожа. Ежедневное купание, уединенное и тихое сладострастие, которое она вкушает с утраченной невинностью детства. Строго говоря, это не воспоминания, скорее ощущения, угнездившиеся в порах ее кожи, живая память конечностей…
Еще несколько саженей, и она хватается за край бортика. Оглядывается, замечает разомлевшие тела на банных полотенцах, прохладительные напитки на низких алюминиевых столиках, детей, гоняющихся друг за другом вокруг бассейна под окрики матерей.
Как только она выходит из воды, волшебство перестает действовать. Ноги наливаются тяжестью, внутрь заползает злая усталость. Она снимает купальную шапочку, встряхивает волосами и быстро возвращается в шезлонг. Хватает пары секунд, чтобы взгляды окружающих обратились на нее. Возраст не мешает ей осознавать свою красоту и власть над другими людьми. Над мужчинами моложе себя. В их взглядах читается желание, чуть постыдное, быстро подавляемое. Она часто подстерегает эти жестокие переломные моменты: сперва притянутые к ней, как магнитом, они быстро отворачиваются, чувствуя вину за то, что пусть и на секунду, но почувствовали влечение к женщине, иногда намного старше их.
Она не всегда была красивой. В пятнадцать лет черты ее лица были неказистыми, манеры – мальчишескими, походке недоставало элегантности. Редкие фотографии того времени продемонстрировали бы это с суровой правдивостью, но они ей ни к чему. Образ себя пятнадцатилетней запечатлелся у нее в памяти. Лицо сорванца – единственное, что действительно принадлежало ей. Его она хотела бы сохранить. Но в лето шестнадцатилетия произошла метаморфоза, неожиданная и необратимая: стройный силуэт, утонченное лицо, грудь, вызывающе торчащая под белыми платьями образцовой юной девушки. Больше она ни разу не узнала себя в этом теле. Красота может оказаться бременем тяжелее уродства. Мало кто способен это понять.
Рядом с ее полотенцем лежит бестселлер из гостиничного магазинчика, первую главу она так и не осилила по причине его редкой занудности.
Собираясь лечь на шезлонг, она видит его, но узнает не сразу, хотя лучше б это случилось немедленно, рывком. Сначала появляется ощущение присутствия – кажется, за тобой кто-то наблюдает, – хотя мужчина смотрит в другую сторону. Требуется время, чтобы в голове созрела рациональная мысль. Она часто моргает, желая убедиться наверняка, и не понимает, как могла не заметить его раньше. Он пришел, когда она плавала? Или уже был там? Какова вероятность, что это он?Действительно он…
Она потрясена. Что-то поднимается в ней, как волна из океанских глубин, захватывающая все ее существо. Она не может шевельнуться. Затылок каменеет. Неподвижные руки прилипли к бокам. Тело стало чужим. Она чувствует только, как капли воды стекают с волос на лоб.
Он лежит рядом с седой женщиной. На нем полосатые плавки, натянутые до пупка. Тело уродливое, дряблое. Она не знает, сколько ему сейчас лет; могла бы покопаться в памяти, быстро посчитать, но уж слишком велико изумление. В момент узнавания что-то внутри нее сломалось – навсегда.
Она ждет. Минут двадцать, может, больше. Она замерла на своем шезлонге, притворяется, что загорает, глаза скрыты за темными очками, но по-прежнему устремлены на мужчину. Официант предлагает гостям прохладительные напитки; она отказывается, покачав головой.
Мужчина наконец встает. Его жена – ну или спутница – не двигается с места. Они обмениваются несколькими словами, он похлопывает женщину по плечу и уходит шаркающими шагами, с полотенцем под мышкой.
Она выжидает несколько секунд, чтобы не привлекать внимания – да кто заметит, что там происходит у бассейна? – потом быстро хватает вещи и следует за ним.
Мужчина направляется к бунгало с розовым фасадом в дальнем конце гостиничного комплекса, за пальмами с пожелтевшими листьями. Номер 36. Дверь он открывает не сразу, медленными движениями. Она стоит чуть в стороне, почти не прячась, – немыслимо, чтобы он ее заметил. Мужчина входит в бунгало. Она несколько мгновений смотрит на закрытую дверь, ничего не испытывая. Страдание пока не просочилось в душу.
Затем она возвращается к себе, находит все необходимое на маленькой открытой кухне и возвращается к номеру 36 с решимостью человека, лишенного выбора. После нескольких минут под кондиционером жара снова обволакивает ее тело, как вторая кожа.
Она прикладывает ухо к двери, дабы убедиться, что он все еще один, потом стучит. На мгновение ей кажется, что он мог не услышать, потому что и сама не уверена, что постучала. Мужчина открывает. Он по-прежнему в плавках, даже рубашку не накинул. Его лицо не выглядит удивленно.
Это действительно он. Взглянув с близкого расстояния, она убеждается: ошибки быть не может. Она помнит его лицо, которое постарело меньше тела. Она говорит себе, что в одетом виде он, должно быть, все еще способен произвести впечатление – именно такое выражение приходит ей на ум.
– Слушаю вас…
– Узнаёте меня?
Собственный голос кажется странным, далеким. «Он, конечно же, меня не узнаёт», – думает она, но тут в глубине его глаз загорается крошечная искорка, которая заставляет ее усомниться. На мгновение. Всего на одно. Он качает головой, не понимая, что нужно этой женщине, вздергивает брови, ожидая дальнейших объяснений. Их не будет.
Она повторяет:
– Вы узнаёте меня?
– Что вы хотите? – спрашивает он с внезапным раздражением. – Кто вы такая?
– Меня зовут Нина.
Мужчина не реагирует. «А что ты себе нафантазировала? Думала, одно упоминание твоего имени вызовет у него панику? Воображала, что завеса разорвется?»
Он еще не заметил нож, который она держит в руке, крепко прижимая его к правому бедру, облепленному мокрым саронгом[2]. В кухонном шкафчике она выбрала самый большой и острый.
– Святая Мария, – произносит она после паузы. – Припоминаете?
Вопросы не нуждаются в ответах. Слишком поздно. Мужчина отступает на два шага, он растерян, даже напуган, и она протискивается в дверной проем. Прохладное дыхание кондиционера обдувает ее лицо. Кажется, что она прыгнула через пропасть, время исчезло. Сорок лет… Расстояние покрыто за секунду.
Она смотрит на мужчину, не видя его, не зная, страшно ли ему. Теперь он увидел нож и разевает рот, как будто хочет закричать. Однако ни один звук не срывается с его губ.
Последний акт.
От бассейна доносятся детские крики. Она захлопывает дверь, поднимает нож и наносит первый удар в шею. Красное попадает ей на руку. Теперь она видит только его налитые кровью, лезущие из орбит глаза, искаженное ужасом лицо. Она поднимает нож, чтобы нанести новый удар. Потом еще один. И еще.
Сейчас ей ясно одно: она выйдет из этой комнаты только после того, как убьет этого человека.
Часть I
Нашему наследству не предшествует никакое завещание.
Рене Шар «Отрывки из Гипноса»1
Иногда я говорю себе – с известной оглядкой назад, на которую ссылаются после того, как катастрофа уже произошла, – что все могло сложиться иначе. Но как далеко нужно вернуться во времени, на какой развилке, в какой переломный момент и какой случайный выбор надо сделать, чтобы изменить ход событий?
Драма не бывает случайной. Я верю, что все мы, по трусости и слабости, носим в себе семена будущих несчастий. И когда происходит перелом, жестокий и необратимый, все равно остаемся слепыми и не видим мельчайших трещин, которые предупреждали об этом.
Париж, май 2008 года
Это происходит вечером перед вернисажем.
Я опаздываю. «Пробки», – говорю себе, когда такси высаживает меня перед галереей, но в глубине души не очень-то в это верю. Человек пять знакомых пьют вино и курят перед витриной, в которой выставлено большое черно-белое фото моего отца: взгляд из-под кустистых бровей устремлен в объектив, лицо закрытое – автопортрет из неопубликованного, найденный в его архиве и выбранный мною в качестве плаката для выставки.
Я обмениваюсь несколькими рассеянными рукопожатиями с гостями на тротуаре, оттягивая, насколько это возможно, момент входа в логово льва. Два горящих бешенством глаза приветствуют меня, как только я переступаю порог галереи.
– Какого черта ты вытворяешь? Я оставил тебе как минимум три сообщения!
Матье, владелец галереи и, кстати, мой лучший друг, наблюдал за моим прибытием через окно. Он залпом опустошает свой бокал шампанского, одновременно хватая меня за руку.
– Извини, я забыл мобильный дома и не заметил, как пролетело время. Ты знаешь, ЧТО ЭТО ТАКОЕ…
Откуда ему знать? Матье не расстается с телефоном, который зачастую выглядит естественным продолжением его руки. Он качает головой.
– Ты никогда не изменишься, честное слово… Напоминаю: мобильный телефон существует, чтобы с тобой можно было связаться в любой момент.
– Нужно было начать без меня. Ты бы и сам прекрасно справился.
После короткой паузы его тон становится более серьезным:
– Сегодня люди ждут не меня, Тео. Они хотят услышать именно тебя.
И это действительно проблема. Я отвожу взгляд в сторону. Сколько себя помню, находясь в центре внимания, я всегда впадал в глубокое беспокойство. От шума и разговоров вокруг у меня заболела голова.
– Давай, поехали! – добавляет он, все еще держа меня за руку, – вероятно, опасается, что я убегу, как только он отвернется.
Мы пробираемся через толпу. Матье налево и направо шутит по поводу моего опоздания, как будто меня нет рядом. Я держусь позади и пытаюсь улыбаться.
Фотографии на стенах, плод десятилетнего труда, все в тонких черных рамках, сменяют друг друга, как во сне. Я мог бы мысленно совершить экскурсию по выставке, после того как провел много дней в архиве отца, собирая и сортируя тысячи негативов, которые он накопил за последние десять лет жизни. У нас с Матье сохранилось сто пятьдесят снимков, все неопубликованные, которые только что изданы в книге под названием «Память и забвение», предисловие и подписи – мои.
Среди знакомых и незнакомых гостей я замечаю Изабель, бывшую помощницу отца, которая машет мне, когда я прохожу мимо. Я знаю ее всю свою жизнь и всегда узнаю по волосам «соль с перцем», уложенным в пучок, которые придают ей старомодный вид школьной учительницы из прошлого. Она прижимает к груди экземпляр книги.
– Ты и представить не можешь, как я тронута, Тео… Ты проделал великолепную работу! Отец гордился бы тобой.
Невозможно сосчитать, сколько раз мне повторяли фразу «Твой отец гордился бы тобой»: когда я получил диплом бакалавра с отличием, когда меня приняли в подготовительный класс лицея Генриха IV, а два года спустя – в «Ла Фемис»[3]; удостоились этих слов моя первая фотовыставка и первые документальные фильмы, снятые для телевидения. Если о моих работах выходили хвалебные статьи, авторы видели во мне «достойного наследника своего отца»… Но кто на самом деле знает, что он подумал бы обо мне и моей карьере? Эта фраза никогда не заставляла меня почувствовать гордость или тщеславие, скорее оказывала прямо противоположное действие. Вместо того чтобы высказывать гипотетические мысли мертвого и похороненного отца, я предпочел бы, чтобы мне просто сказали: «Мы гордимся тобой». Это именно те слова, которых я тщетно жду все эти годы.
Я едва успеваю поблагодарить Изабель, как меня снова подхватывает и увлекает за собой Матье. Гости следуют за нами и продвигаются вглубь галереи. Рядом с буфетом оборудовано небольшое пространство с микрофоном и столиком для автографов. Мой взгляд теряется в «изысканном собрании». Я ищу лицо, не очень веря в успех. Я даже не разочарован. Когда ни на что не надеешься, нет и досады. Словно читая мои мысли, Матье наклоняется ко мне.
– Ты отправил ей приглашение?
– О ком ты, черт возьми?
Он раздраженно качает головой. Осознавая, что моя реакция нелепа, я капитулирую:
– Нет. Я не верю, что она пришла бы…
Я вру. Я искал лицо моей жены, Джульетты. Вернее, бывшей жены; наш брак давно стал пустой формальностью. Мы не виделись больше шести месяцев и даже не разговаривали по телефону. Я несколько дней колебался, прежде чем вложить приглашение на ее имя в конверт. «Я бы очень хотел, чтобы ты пришла. Надеюсь, выставка тебе понравится». Эти жалкие слова я нацарапал на оборотной стороне открытки. Слова, которые я мог бы написать любому едва знакомому человеку, предназначались женщине, разделившей со мной шесть лет существования.
«Я бы хотел, чтобы ты была со мной. Ради моего отца. Для меня. Для нас. Я не хочу, чтобы все закончилось таким образом». Неужели эти несколько предложений так трудно написать? Выходит, да, раз я не смог.
Матье наливает себе еще шампанского и постукивает по нему ложечкой, как свидетель на свадьбе, готовый порадовать присутствующих неизбежной речью, обогащенной шутками на тему школы и сентиментальными историями. Он щелкает по микрофону, проверяя звук, и знакомым, хорошо поставленным голосом начинает ретроспективный рассказ о творческом пути моего отца: дебют в качестве художника, первые опубликованные в журналах снимки из путешествий по Африке и Азии, участие в Сопротивлении, годы фотожурналистики в известных информационных агентствах, перекрестные репортажи из США и СССР времен холодной войны – и резкая смена курса в 1963 году, когда он прекратил всякое сотрудничество с ведущими журналами, чтобы посвятить себя личным проектам, которые при жизни увенчались редкими выставками и публикациями. Квазиотставка на пике славы, во многом способствовавшая легенде о таинственном Йозефе Кирхере.
Я знаю все это наизусть. Матье звучит, как заезженная пластинка. Наконец я поднимаю голову и позволяю своему взгляду скользнуть по аудитории, которая для меня не более чем туманная масса. Раздаются аплодисменты. Только в этот момент я осознаю, что Матье протягивает мне микрофон.
Говорить об отце на публике всегда было для меня испытанием. Наверное, потому, что я никогда не знаю, какую сторону принять. Отстраненно рассуждать о его работах с иллюзорной объективностью, как я мог бы поступить с работами Дуано или Картье-Брессона? Или принять тот факт, что для большинства людей я существую только через него, что он не только мой отец, но и опекун, с которым я прожил бо́льшую часть своей жизни, всегда поражаясь тому, что мертвые могут подавлять живых своим присутствием.
Устав жить в тени легенды, я покинул Францию, едва успев отметить тридцатилетие, и переехал в Лос-Анджелес, который немного знал. Я прожил пять лет в Соединенных Штатах и, честно говоря, считаю их лучшими в моей жизни. По иронии судьбы в то время как я изо всех сил старался избавиться от груза фамилии, именно она открыла мне двери в карьеру «фотографа звезд», как вскоре окрестят меня таблоиды. Я уезжал, не имея ни реальных планов, ни особых амбиций, но отец, который долго работал в «Лайф», был достаточно известен за океаном, и агент сразу предложил мне сделать несколько съемок для второстепенных актрис и актеров, стремящихся подняться выше. Мои фотографии, все черно-белые и на пленке, наперекор моде на цифровые технологии и диктату «Фотошопа», имели неожиданный успех. Звезды вскоре стали пользоваться моими услугами, и я, себе и без особых усилий, стал известным/востребованным фотографом. Как говорил Роберт Капа: «Фото уже есть, их надо просто взять».
Я встретил Джульетту на одном из тех ошеломляющих и бесконечных вечеров на вилле в Бель-Эйр, секрет которых известен Голливуду. Будучи эмигранткой, она работала директором по маркетингу в PR-агентстве. Очень большая зарплата. Громадная ответственность. Мы оба путешествовали по сентиментальной пустыне, заводя отношения столь же краткие, сколь и поверхностные. Мы сразу понравились друг другу и начали встречаться, не воспринимая этого всерьез и благоразумно избегая любых планов на жизнь под одной крышей. Мы наслаждались преимуществами супружества, не имея при этом повседневных хлопот, так вредящих чувствам. Вдали от Франции, запертый в пузыре, где все было легко и искусственно, я искренне верил, что наши отношения смогут продлиться. Честолюбивая Джульетта не была готова пожертвовать личной жизнью или надеждой свить семейное гнездышко. Она скучала по своей стране и друзьям. Мы вернулись в Париж, когда ей предложили должность еще более высокооплачиваемую, чем та, которую она занимала. Продолжение, увы, было банально печальным. В тот момент, как мы переехали, поселились вместе и решили пожениться, карета снова превратилась в тыкву. Наше американское начало было нашим выпускным вечером, эфемерным и иллюзорным. На самом деле между нами ничего не сломалось – мы просто не смогли ничего построить.
…Матье все еще протягивает мне микрофон, смущенный отсутствием реакции. В конце концов я беру в руки себя и микрофон. Я не подготовил ничего конкретного, хотел бы оказаться в другом месте, и с первых слов мой голос звучит неуверенно:
– Ни для кого не секрет, что я очень мало общался с отцом. Мне было всего пять лет, когда однажды вечером, в феврале семьдесят третьего года, он умер от сердечного приступа. Когда я думаю о нем, мне трудно отделить собственные воспоминания от чужих рассказов… Даже фотографии вводят меня в заблуждение. Глядя на работы, висящие в этой галерее, я наивно верю, что был свидетелем каждой из этих сцен. Однако некоторые вещи остаются неизгладимыми. Я всегда буду помнить звук его голоса, мозолистые руки, высокий силуэт в мастерской, склонившийся над столом, на котором он сортировал и раскладывал отпечатки. Именно в мастерской нашей фабрики в Сент-Арну-ан-Ивелин была сделана вот эта фотография.
Я умолкаю и указываю на черно-белый снимок, висящий на стене слева от меня. На нем маленький мальчик: стрижка под горшок, упрямый подбородок, черные глаза, взгляд устремлен на невидимую цель над объективом. Хотя фотография была сделана тридцать пять лет назад, я нахожу, что не сильно изменился. Ну, не считая стрижки. В моей памяти всплыли образы мельницы – старого, почти древнего здания, купленного в очень плохом состоянии, сожравшего половину состояния моего отца. Огромная гостиная с открытыми деревянными балками. Деревянная лестница, которая вела в спальни и на антресоли, заваленные книгами. Клетка со старым колесом. После смерти отца мы прожили на мельнице три года, прежде чем моя мать, уставшая от возни с поместьем и постоянным ремонтом, решилась продать его чете иностранцев, страстно влюбленной в старые камни.
– Мне тогда было четыре года, – продолжаю я. – Немногие из вас бывали на мельнице и проводили там долгие вечера за коллекционными винами отца. Я смутно помню несколько таких вечеров. Большой дубовый стол посреди гостиной накрыт на десять-пятнадцать человек. В глубине комнаты через большое круглое окно виден водопад на речке, протекавшей под домом. Колесо давно исчезло, но система клапанов позволяла запирать или пропускать воду. Мой отец, как вы знаете, был ужасно говорлив и терпеть не мог, когда его перебивают. Мне рассказывали, что, если его обрывали во время обеда, он злился и шел открывать шлюз, чтобы шум водопада заглушил разговор. (В зале вспыхивает смех.) Я не могу вспоминать Йозефа, не упомянув о женщине, которая была ему женой последние пять лет его жизни: мою мать Нину. Они встретились в Париже в конце шестидесятых, когда он переживал небывалый житейский и творческий кризис и был готов бросить фотографию. Думаю, без нее он никогда больше не взял бы камеру в руки. У моего отца был романтический взгляд на вдохновение. Он все время повторял, что Нина была его музой, той, что вернула его к жизни, подарила второе дыхание. Фотографии, которые вы имеете удовольствие видеть сегодня вечером, никогда не появились бы без нее.
Я делаю паузу.
– Моя мать не присутствует здесь сегодня вечером, но она точно не захотела бы, чтобы ее отсутствие неверно истолковали. Вы знаете, что она всегда была одиночкой по натуре, и воспоминания о том периоде жизни причиняют ей много страданий. Эти фотографии оказались для нее слишком тяжелым наследием. Просто знайте, что, отдыхая на юге Франции, она всем сердцем с нами. Благодарю вас за внимание.
Публика аплодирует. Я немедленно возвращаю микрофон Матье.
– Дорогие друзья, наслаждайтесь фуршетом, потом Тео начнет подписывать книги. Вы в привилегированном положении – издание появится в магазинах только через десять дней, а у вас есть возможность приобрести ее сегодня и получить автограф автора.
Все приходит в движение, галерею заполняет веселый гул. Матье улыбается и похлопывает меня по плечу.
– Ты очень хорошо говорил. Люблю, когда ты немного отпускаешь вожжи.
– Брось, меня хватило только на банальности.
– Не важно, банальности это или нет, если они сказаны искренне.
– Еще одна банальность.
Матье как будто ищет кого-то в толпе.
– Кстати, мне нужно познакомить тебя с журналистом, о котором я говорил тебе вчера. Он в восторге от фотографий. Не скрываю, сначала он был настроен скептически – должно быть, вообразил, что мы наскребли выставку по сусекам… Пообещал мне хвалебную статью на следующей неделе.
– Хорошо, но не могли бы мы заняться этим после автографов?
Он бросает на меня подозрительный взгляд.
– Ты ведь не убегаешь?
– Это в моем духе?
– Вообще-то, да.
– А если серьезно, у тебя есть новости от Лашома? Он сказал, что перезвонит мне.
При упоминании имени нашего адвоката Матье морщится и качает головой:
– Ничего конкретного, но я действительно считаю, что это были пустые угрозы. Твой брат…
– Мой единокровный брат.
– Ладно, ладно… Твой единокровный брат так далеко не пойдет. Он ничего не может сделать против нас. Твоя мать – распорядитель наследства, и он получит причитающуюся ему часть. Ни один судья не запретит выставку или издание книги без веских причин. Что ему это даст?
– Ты не представляешь, на что способен Камиль, когда впадает в паранойю.
– Ты знаешь, где он сейчас?
– Нет. Либо в реабилитационном центре, либо загрузился под завязку в каком-нибудь гостиничном номере. Ничто не ново под луной, а он потратил на это половину своей жизни.
– Ты жесток к нему, Тео.
– А он разве нет? Проклятье! Как он может угрожать нам судебным иском из-за этих фотографий? Йозеф и его отец, но Камилю всегда было плевать на его работы. А теперь он появляется как чертик из табакерки и изображает защитника! Мой отец никогда не возражал против того, чтобы фотографии однажды были обнародованы. Уверен, он этого даже хотел…
Сам того не сознавая, я повысил голос, так что несколько человек повернули головы в нашу сторону. Я еще не пережил оторопь от заявления, которое Камиль направил нам через судебного пристава. Я злился, ведь он был прекрасно осведомлен о нашей работе и никогда не проявлял к ней ни малейшего интереса.
– Я прекрасно все понимаю, Тео. Но не изводи себя. Давай не будем портить вечер, это было бы слишком глупо.
Я киваю, пытаясь успокоиться, но для меня вечер был испорчен еще до его начала. Моя семья «висит» на стенах галереи, выставленная на обозрение десятков и десятков незнакомых людей, но никого нет рядом. Я внезапно чувствую, что лишился части себя. В конце концов, возможно, Камиль прав. Наверняка было бы лучше, останься эти негативы лежать в картонных коробках.