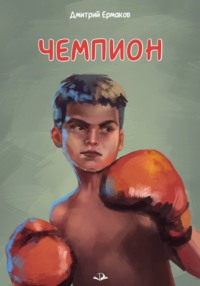Полная версия
Красный берег
– Да.
– А мы с женой в губернию…
С гудением и стуком надвинулся и полетел параллельно встречный состав. Вагоны с оконцами, в которые видно стриженые головы, платформы с зачехлёнными орудиями – воинский эшелон.
– Два года длится небывалая в истории мировая бойня. И власть, которой вы служите, ротмистр, не в состоянии остановить её ни победой, ни какими-либо другими средствами… Сами гибнут и народ губят! – сказал, сминая в плоских пальцах мундштук папиросы Потапенко.
– А вы, окажись власть в ваших руках, сумели бы это остановить?
– Это первоочередная задача нашей партии… Да, – вскинулся Потапенко, – чуть не забыл – я читал вашу статью в газете о Марьином камне, о язычестве… Честное слово, господин Сажин, занимались бы вы историей! Как вас в жандармы-то угораздило?
Сажин докурил папиросу, смял пустой мундштук и бросил в пепельницу, вынул из кармана платок, снял и протёр очки:
– В жандармы меня угораздило по воле отца и молодому романтизму, а история и археология… Не знаю… Любое дело требует полной самоотдачи. Я же, скажу вам честно, ленив и более всего хочу покоя душевного, который и нахожу отчасти в своих исторических занятиях – вот так, пожалуй… – Он усмехнулся невесело и, твёрдо прерывая затянувшийся разговор, сказал: «Что ж, удачи, господин Потапенко».
– И вам всего доброго, – ответил Иван Алексеевич и раскрыл дверь, ведшую в соседний вагон, шагнул туда, в грохочущий и неустойчивый межвагонный переход…
Сажин вернулся в купе. Ирина глядела из своего уголка испуганно.
– Ваня, почему ты так долго? Мне страшно… Этот состав, солдаты… Их всех убьют… Я знаю – их убьют…
– Ну что ты, не бойся, родная… – ротмистр Сажин впервые наблюдал неожиданную истерику жены.
…Ирина успокоилась. Мерный перестук колёс, плавное покачивание вагона и его равномерное вздрагивание на стыках рельсов, привычные виды северной России за окном – поля, леса, деревеньки, речки и снова поля и леса, близкий, но, оказывается, ещё не совсем, не до донышка души, знакомый человек, с которым жить и жить – всё успокаивало и навевало думы о счастье. И не верилось, что где-то идёт война, и горе, как ветер, носится над этой землёй…
Они попили чаю. Ирина прилегла на диван, подложив под голову подушку, раскрыла какую-то книгу… Иван Сажин раскрыл кожаный портфель, достал недавний номер губернской газеты. Как всякий начинающий автор (а это была всего лишь вторая его публикация в прессе), он переживал и не до конца верил, что это его мысли, записанные его рукой, облечены в печатную форму и выставлены на всеобщее обозрение. Он, немножко стыдясь жены, но и будучи не в силах отказать себе в этом, развернул газету и перечитал свою статью…
«…То, что протославянский язык близкородствен санскриту, уже давно не вызывает сомнения у специалистов в этой области (одна из наиболее серьезных работ на эту тему «О сродстве языка славянского с санскритским» г. Гильфердинга опубликована ещё в 1853 году).
Вновь убедился я в правоте этих выводов, побывав недавно в одном из отдаленных уездов нашей губернии, в месте, носящем поэтическое и безусловно древнее название Красный Берег. Название протекающей там речки, как и сотен других речек, ручьёв и рек в наших краях, оканчивается на слог «га». В санскрите же, как известно, «га» – это движение. (Не отсюда ли и «нога» или «го (га) – ра»? Предположу, что «гора» («гара») есть движение к солнцу («ра» – солнце)… Впрочем, подобные предположения далеко могут увлечь нас в наших мечтах… Но ещё языковое наблюдение: выражение «трава-мурава», повсеместно употребляемое на Русском Севере, фактически повторяется в санскрите, где слово «мурава» и обозначает трава… Следственно, арии, пришедшие на полуостров Индостан несколько тысяч лет назад, говорили на языке, остатки которого ощутимы и в языке нынешних жителей Русского Севера и, в частности, Красного Берега. (Говорю «остатки», но нынешний русский язык и его северные диалекты не есть ли тот самый древний праязык, лишь видоизменившийся в силу естественной эволюции?) Недавние же работы индийских и английских авторов, переводчиков и комментаторов «вед» и вовсе поражают – оказывается, в древнейших арийских текстах описываются приполярные и северорусские реалии – полярные ночи зимой и белые ночи летом, стоящая над головой Полярная звезда, северное сияние – всё это могло придти в древнейшие индоарийские тексты лишь при условии длительного проживания именно в наших и более северных широтах…
Так что же за люди жили на месте нынешней «краснобережной» деревни Ивановки (название явно «молодое»), следы древней культуры которых удалось мне обнаружить? Неподалёку от деревни, на возвышенном берегу реки, называемом в той местности «угор», на самой верхней точке этого угора есть полянка, окруженная лесом. Поляна эта, смею предположить, искусственного происхождения, то есть когда-то на самой макушке угора деревья были специально вырублены. Посреди поляны и сейчас лежит огромный камень, именуемый в народе «Марьин камень».
Само по себе то, что камень имеет название, уже говорит о том, что это непростой камень. А слово «Марьин», хотя и относят сейчас более к христианской традиции (например, по информации г. Угрюмова, опубликованной в прошлогоднем выпуске «Губернского археологического вестника», в одном из уездов подобный же камень называют «Богородициным»), на самом же деле имеет гораздо более древнюю этимологию: «мор», «мора», «морена» – древнейшие слова, обозначающие смерть, а может быть, и «богиню» смерти у древних ариев (а я убежден, что на Красном Берегу жили именно арии – пранарод, носитель праязыка)… Но слог «ма» (возможно, корень, а не слог) может указывать и на древнюю богиню урожая Макошь (она же, по всей видимости, и «мать-сыра земля»), одну из самых почитаемых у древних славян. Тем более, что камень всё же явно связан с женской, возможно, жертвенной обрядностью.
Исходя из географии места, очевидно, что камень на гору был поднят от реки, где, кстати, подобные камни-валуны, наследие ледника, находятся в изобилии…»
Далее шли размеры камня, ещё некоторые данные и размышления автора… Сейчас, перечитывая статью, он видел её недостатки – многословие, неточность… И всё же – напечатали ведь! Сажин зачем-то поднёс газету к самому лицу и… с наслаждением вдохнул запах типографской краски.
Ирина спала, по-детски подложив ладони под щеку, подогнув ноги, обтянутые серой шерстяной юбкой. Иван достал из чемодана плед, укрыл жену и сел рядом с нею…
Ольга, сестра Ирины, и Константин Сергеевич Маринов, её муж, пехотный офицер, встречали Сажиных на перроне вокзала. Сёстры обнялись. Мужчины пожали руки. Носильщик с бородой-лопатой и тусклой бляхой на тёмно-синем фартуке уложил на тележку вещи приезжих и деловито покатил к выходу с перрона.
Рядом разгружался санитарный поезд. Медбратья – молодые ребята в военной форме с крестами на фуражках – несли носилки, ходячие раненые – с подвязанными руками, забинтованными головами – шли сами. Пожилой солдат подпрыгивал на одной ноге, едва опираясь на вторую, его поддерживала сестра милосердия – тоже пожилая, с грубоватым лицом. «Ой, полегче, сестрица, ой, полегче…», – тихонько причитал солдат.
Сажины и Мариновы замолчали…
Привокзальная площадь наполовину была заставлена санитарными каретами.
Носильщик, едва протолкав тележку к их экипажу, пристроил вместе с кучером багаж, принял плату от Константина Сергеевича, «Благодарствую», – буркнул и пошел обратно к перрону, откуда всё несли и несли, вели и вели раненых…
Иван Андреевич тревожно поглядывал на жену, но Ирина, на удивление, держалась сейчас спокойно.
А город встречал образом тихой жизни: ухоженной зеленью, спокойными прохожими, вывесками магазинов и лавок…
Вскоре подъехали к простому, но при этом просторному двухэтажному деревянному дому, отделённому от улицы невысоким забором, за домом виднелся сад, во дворе – дровяник, каретник, конура, из которой лениво выглянул седой пёс и снова убрался…
– Как хорошо у вас, Оля! Как спокойно…
На крыльцо, громко хлопнув дверью, выскочили мальчик и девочка:
– Мама, папа! Тётя, дядя!..
– Серёжа, Катя, переобуться-то… – не поспевая за детьми, вперевалочку шла старая няня…
После обеда женщины с детьми гуляли в саду. Мужчины курили в кабинете.
– Между нами – несколько дней назад состоялась встреча командующих фронтами. Были все, кроме Корнилова. Но его-то и назвали будущим Верховным… – Константин Сергеевич рассказывал свежие петроградские новости. Он лишь третьего дня приехал из столицы, где лежал в госпитале, а теперь находился в отпуске.
– Как? – недоуменно взглянул на него Сажин.
– Да-да. Нужно быть готовым к смене формы правления…
Вечером ездили в театр. Местная труппа давала «Вишневый сад».
– Не стук топора по стволам, за сценой, а стрельба и «Марсельеза» должны бы слышаться в конце пьесы по сегодняшнему-то дню, – сказал вдруг Сажин, когда вышли из театра (до дома решили прогуляться пешком).
Константин Сергеевич промолчал в ответ.
– Иван… – укоризненно вздохнула Ирина, беря мужа под руку.
– А я верю, что все будет хорошо, – сказала Ольга, тоже беря мужа под руку. – Иначе, без веры в хорошее – как и зачем жить?..
В недалёком городском саду играл военный духовой оркестр. Тревожная музыка вальса наплывала и волновала…
И в сумерках уже не заметил Иван Андреевич, как прикусила губу жена, едва сдерживая слёзы, только почувствовал, как сжала она его запястье…
4
В Питере Потапенко оказался лишь к осени (задержался в Москве, где ему изготовили новый «чистый» паспорт на фамилию Поздняков; Иваном Алексеевичем, правда, остался).
Ещё в августе в Петрограде были арестованы тридцать членов ЦК РСДРП. Всё руководство рабочим движением практически перешло в руки Выборгского комитета, членом бюро которого и стал в январе семнадцатого Иван Алексеевич Поздняков…
Утро было хмурое, всю ночь валил мокрый снег, и сейчас не переставший и переходящий временами в холодный дождик. Поздняков подошёл к проходной завода «Рено». Полицейский с кобурой на боку, стоявший под фонарным столбом неподалёку, дёрнулся в его сторону, хотел окликнуть, но незнакомый ему коренастый мужчина в кожаном картузе и драповом пальто уже прошёл на территорию завода. Причём, и время неурочное – все рабочие и служащие уже прошли. Полицейский всё же спросил у дежурного на проходной:
– Это кто? Чего-то я не помню?
– Свои, Сергеич, – с ленцой ответил дежуривший толстый мужик. И добавил, – инженер новый.
Полицейский глянул на круглые часы над проходной, минут через десять должен подойти казачий разъезд. Хоть казаки не больно полицию любят, а всё же с ними надёжней в случае чего… А случиться может, что угодно. О забастовке опять вон толки идут. И о чём начальство думает – по одному тут выставляя…
Поздняков прошагал за встретившим его у проходной парнишкой лет семнадцати в ремонтно-механический цех.
В раздевалке его ждали пятеро руководителей заводского комитета, со всеми за руку поздоровался.
– Ну, как, товарищи, готовы?
– Готовы. Нам отступать некуда, – за всех ответил крупный сутуловатый рабочий лет сорока с густыми рыжеватыми усами.
В дверь всунулась лысая голова с шустрыми глазками и оттопыренными ушами:
– И чего это мы, господа хорошие? Шабашить решили?
– А вот мы уже и идём. – Все поднялись. А голова быстро убралась, и будто никого и не было за дверью…
– …Товарищи, на сегодня назначена всеобщая забастовка и демонстрация питерских рабочих… Будем пробиваться в центр города, товарищи. Лозунги наши прежние: «Долой войну!», «Долой самодержавие!» Сейчас группами расходимся по цехам, выводим народ на улицу и организованной колонной движемся к Лиговскому мосту. Хотя большинство воинских частей на нашей стороне, столкновения с войсками возможны. Есть данные, что сформированы специальные офицерские отряды. Власть в Питере должна перейти в руки Совета Рабочих и Солдатских депутатов до подхода армейских частей с фронта…
– Всё ясно, Иван Алексеевич, идём!
– По цехам!
– Бросай работу!
Минут через десять раздался неурочный резкий заводской гудок, возвестивший начало стачки, напугавший молодых лошадей подъехавшего к проходной завода казачьего разъезда. Рабочие затихли, увидев казачью силу. Но передние, как по команде, молча сцепились локоть в локоть, за ними поднялось и развернулось красное полотнище с чёрными буквами: «Свобода или смерть!» И казаки молчали. «Вперёд, товарищи!» – негромко сказал Поздняков, но его услышали все, колонна демонстрантов двинулась с заводского двора. Звякнули удила, и так же слышно всем прозвучал негромкий голос есаула: «За мной!» Казаки тронулись, но не на рабочих, а вдоль по улице, прочь от колонны. Серый жеребец на скаку приподнял хвост, и на мостовую посыпались зелёно-жёлтые «яблоки»…
…В это же время в казарме третьей роты триста двадцатого пехотного полка прозвучала команда:
– Получаем оружие, выходим на улицу строиться!
Споро разбирали в оружейной комнате винтовки, подсумки с патронами.
– Ну, братцы, как договаривались, – негромко, но твёрдо сказал коренастый, широкоскулый солдат с лицом, как дробью побитым. И другие солдаты брали оружие молча, сосредоточенно, будто разбирали инструменты перед ответственной работой.
– Становись! – скомандовал командир роты капитан Ковалев.
Построились.
– Солдаты! Бунтовщики идут к центру города. В условиях войны любой бунт – прямое предательство. Наша задача остановить их…
Семён Игнатьев стоит на привычном месте в строю. Весело и страшно ему. Страшно, потому что сегодня нужно не просто решить, с кем он (это уже решено), но и совершить поступок. И весело от того, что знает, что и другие его товарищи решились на этот же поступок. Весело осознавать себя свободным человеком.
– Равняйсь, смирно, напра-а-во!
– Не надорвитесь, вашблагродие. – Спокойно сказал всё тот же широкоскулый солдат, незамеченным подойдя к офицеру сбоку.
– Что? Попов, встать в строй! Командир отделения, ко мне!
– Сдайте-ка оружие, господин капитан, от греха, – сказал Яков Попов и потянулся к кобуре офицера, тот, однако, опередил, выхватил оружие и до того, как схватили его за руки, успел нажать спусковой крюк. Попов-то отшатнулся, но, удивленно обведя всех глазами, потрогав, будто не веря, грудь, рухнул на булыжники плаца паренёк, стоявший рядом с Семёном Игнатьевым.
– Ах ты гнида!..
– Бей его!..
– Сволочь…
Через пару минут на плацу лежало истоптанное, будто и не человеческое тело…
Застрелен был и прапорщик, пытавшийся по телефону сообщить высшему начальству о случившемся… Вооружённая толпа в серых шинелях вырвалась на улицу, где уже надвигалась рабочая демонстрация. И молодые крепкие парни из демонстрантов сунули руки за пазухи – к наганам. Но над серой солдатской массой красною птицей взвилось знамя.
– Ура! Ура-а! Ура-а-а!..
…Семён не сразу выбежал с казарменного двора на улицу, оцепенело смотрел он на брошенное тело молодого солдата. Потом подошёл к растоптанному телу капитана. Глаза мертвеца, наполненные темно-серым небом, упирались в него. Семён, отвернувшись, быстро, обеими ладонями прикрыл веки мёртвому командиру, лишь тогда снова повернул лицо к нему. И увидел вывернутые карманы шинели – кто-то успел, воспользовавшись суматохой, пошуровать в них. А рядом, на мокром булыжнике плаца, придавленный тяжёлой от крови полой шинели, лежал конверт. Семён зачем-то поднял его, сунул торопливо в карман.
– Что, братишка? – спросил вдруг подошедший откуда-то малознакомый Семёну солдат, не дожидаясь ответа, понимающе покивал. – Табачком-то не угостишь?
Семён полез за кисетом:
– Прибрать бы надо, – глухо сказал, кивнув на мёртвые тела.
– Да, ладно, потом! – махнул сослуживец. – Пошли, а то отстанем от своих. – И оба пошли торопливо к воротам, за которыми слышалось гудение толпы, шарканье и стук подошв о мостовую. И всё это сливалось в единый звук – будто ползла и шипела огромная рептилия…
– …На Лиговском мосту пулемёты, – доложил тот паренёк, что встречал Ивана Позднякова у проходной.
«Если пойдём по льду, посечь могут всех. Они сейчас на всё готовы», – оценил Иван Алексеевич положение.
– Стойте, до моей команды не двигаться! – Потапенко-Поздняков вышел из-за прикрытия угла дома. Качнулся за ним солдат Попов, придерживая на плече винтовку с примкнутым штыком.
– Подожди, товарищ, – остановил его Иван Алексеевич. Двинул к мосту, где за мешками с песком виднелись винтовочные штыки, а между мешками – тупое рыло пулемёта.
– Стой, кто идёт!
– Свои!
– Свои пароль знают. Ко мне! – скомандовал офицерик в светло-серой шинели и глубоко натянутой фуражке, вышагнувший из-за мешков. – Кто такой?
– Я представитель Выборгского комитета партии социал-демократов… Товарищи солдаты! Ваши братья-рабочие хотят пройти на Невский и к Зимнему, чтобы заявить царскому правительству свои требования. Братья-солдаты, не стреляйте!
– Молчать! – офицерик судорожно тянул, дёргал наган из кобуры.
Грохнул выстрел. Иван Алексеевич опередил офицера. Он ждал, что сейчас и в него ударит винтовочный залп или срежет пулемётная очередь.
…Офицер лежал с неестественно подогнутыми ногами, с ужасом на лице, тёмное пятно расплывалось на серой шинели, на груди…
И выстрел грянул. Поздняков вздрогнул.
– Не бойся, товарищ, иди сюда, это мы тут второго – сами…
Высокий солдат в папахе и с подкрученными усами вышел из-за мешков, махнул призывно рукой.
Поздняков подошёл. Ещё человек пять солдат стояли над телом ткнувшегося лицом в мостовую, лежащего у пулемета офицера.
– Сюда, товарищи! Путь свободен! – Поздняков махнул рукой, и из переулка потекла на мост тёмная людская река…
Центр Петрограда заполнен солдатами, рабочими, мужчинами и женщинами.
Свершалась февральская, «бескровная», революция.
Глава вторая
1
– Всё это, батюшка, сильно напоминает гапоновщину, тот с рабочими заигрывал, вы – с крестьянами… – говорил ротмистр Сажин, прихлёбывая с явным удовольствием чай из фарфоровой чашки, прикладываясь серебряной ложечкой с витым черенком к розетке с земляничным вареньем.
Тёплый июльский вечер. На веранде усадебного дома Зуевых сидят трое. Жандармский ротмистр Сажин – молодой, подчёркнуто аккуратный, с высоким открытым лбом (волосы приглажены назад), тонкой полоской усов, лихо закрученных кверху, и едва заметной ухмылкой, притаившейся в твёрдо поджатых губах. И в глазах коричневато-зелёных за стёклами очков в тонкой оправе – тоже будто бы постоянная усмешка и вопрос. Настоятель Кресто-Воздвиженского храма, отец Николай, с окладистой, начинающей седеть бородой, длинные волосы собраны в косицу, нос крупный, густые брови, глаза спокойные серые, и говорит он спокойно глуховатым своим голосом:
– Иван Андреевич, не могу с вами согласиться. В чём же гапоновщина? Ежели крестьяне меньше пьют или же и вовсе отказываются от хмельного, меньше и драк по праздникам, больше и достаток в домах… Да если б не их, тех же крестьян, пожертвования – не было бы ни чайной, ни библиотеки, ни школы. – Но тут же батюшка и оговорился: «Отдаю должное, не было бы ничего этого и без пожертвований Алексея Павловича».
Алексей Павлович Зуев, подполковник в отставке, наследный владелец усадьбы, высокий, худой, с обширной плешью, с морщинистым сильно состарившимся за последний год лицом, сдержанно кивнул на похвалу священника. Два года назад в Польше погиб его сын Иван, а в апреле из Петрограда пришла весть о гибели жениха дочери Елизаветы. Ей причину не говорили, но Алексей Павлович знал, что погиб капитан Ковалёв от рук вышедших из повиновения солдат собственной его роты… Со времени получения горького известия это были первые приглашённые гости в доме Зуевых. Правда, Елизавета Алексеевна, подойдя под благословение отца Николая и сдержанно поздоровавшись с Сажиным, сразу ушла в свои комнаты, больше весь вечер не показывалась… Хозяйка же дома – противоположность мужу своей округлостью и невысоким ростом – Софья Сергеевна, будто перекатывалась из дома на веранду, а то в саду за домом или в цветнике, или где-то за деревьями парка слышался её голос. Постоянно живущих при усадьбе, нанятых для работ или же просто приживал было здесь довольно много, были даже старики из бывших крепостных. Всем Софья Сергеевна работу находила.
– Что ж, отец Николай, соглашусь – в чайных ваших и прочих аптечках да библиотечках ничего крамольного нет, хотя, уверен, и польза невелика… А вот то, что вы не ныне правящие власти, а отрёкшегося царя и семью его поминаете, нарушая установления и высшей духовной власти… А? – допив чай и посмотрев зачем-то сквозь тонкий фарфор чашки в залитое солнцем небо, проговорил Сажин.
– А вы-то кому присягали, господин офицер? – напряженным голосом, вопросом на вопрос ответил священник и склонился к столу, при этом золотой его крест, недавний дар «от общества», пристукнул о застеленную голубой скатертью столешницу.
– Временному правительству, разумеется. Присяга же императору, на которую вы указываете, потеряла силу после его отречения.
– Вот именно, что вре-мен-ному… России без царя не жить.
– Живём же… Временное, да. Но скоро будет не-временное…
– И я, господа, убеждён, – вступил в разговор Алексей Павлович Зуев, что будущее государственное устройство России должно определить учредительное собрание граждан…
– Нет. Ничего оно не определит, – уверенно и даже заметно грубовато ответил Сажин. – Похоже, что другие люди, никого особенно и не спрашивая, власть заберут.
– Это какие же, позвольте узнать?
– Да вот, наподобие сбежавшего социал-демократа, – Сажин кивнул в сторону реки, с другой стороны которой, из Ивановки, ушёл прошлой весной ссыльный. – Уверен, что он сейчас в Петрограде, среди этих… большевиков. Им терять, действительно, нечего, а получить могут власть…
– Народ и власти должны одуматься и коленопреклоненно просить о возвращении на престол царствующей династии, – гнул свою линию отец Николай.
– И, конечно, приход к власти людей, подобных этому Потапенке, будет тяжелейшим, возможно, смертельным потрясением для России. – Будто сам с собой уже рассуждая, говорил Сажин. И решительно, как отрезал, подвёл итог своим мыслям: «Только военная диктатура может остановить их…»
2
Лиза раскрыла толстую в бархатном, протёртом на углах переплёте тетрадь – семейную реликвию. Сегодня утром взяла её из книжного шкафа в отцовском кабинете. «Николай Зуев. Заметы моей жизни» – выведено на первой желтоватой странице витиеватым почерком и дата внизу – 1849. Николай Зуев – личность в их семействе легендарная, брат её прадеда. Умер он молодым, а знаменит вот этой тетрадью, которую и раньше листала Лиза с дозволения отца, а прочесть от начала и до конца впервые решила сегодня.
«„О, память сердца!
Ты сильней рассудка памяти печальной…“
(Несчастный Батюшков, кажется, ещё живущий в Вологде).Явился на свет я в день Усекновения Главы Иоанна Крестителя, в 1822 году, седьмым и последним ребенком своих родителей. О первых годах своей жизни сказать ничего не могу, потому как помнить их невозможно. Хотя, явственно помню мягкие, пахнущие молоком руки нянюшки моей Власьевны. Рос я баловнем у родителей – все мне позволялось. Думаю, что это и стало причиной моего скверного и крутоватого характера. И когда для укрощения меня стали употреблять прут – было уже поздно. Было у меня три сестры и три брата, из коих одна сестра и один брат умерли, не достигнув возраста юности, остальные же Божьей милостью живы и ныне.
Пришло же и то роковое для меня время, когда объявили, что мне пора учиться…
А с каким удовольствием мы, дети, плавали в лодке по нашей реке, а порою и высаживались на противоположном, носящем название Красный, береге. Поднимались на гору, с которой открывался прекрасный вид на наш воздвиженский берег. А камень, который крестьяне зовут Марьиным, и поныне лежащий там – пугал легендами и обрядами, связанными с ним, но и манил к себе…»
Лиза оторвала глаза от книги. На стене перед ней висел портрет в овальной раме – бледный худощавый молодой человек, с зачёсанными вперёд висками по моде тридцатых годов прошлого века, с внимательными и грустными глазами глядел на неё. Был ли это Николай Зуев, автор «Замет…» или один из его братьев, теперь уже не мог достоверно сказать никто, подписи на портрете не было, имя художника тоже осталось неизвестным, но утвердилось мнение, что это и есть Николай Зуев – брат её, Елизаветы Зуевой, прадеда… «Господи! Жили в золотое незыблемое время, в богатом именье, в почёте царской службы мужской половины семьи, в заботах по хозяйству и волнениях о здоровье многочисленных детей половины женской, во всём этом не отягощающем богатстве, хлебосольстве, барстве… И ведь тоже от чего-то страдали!»