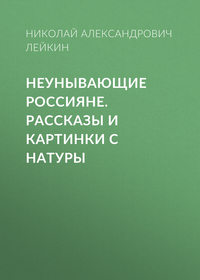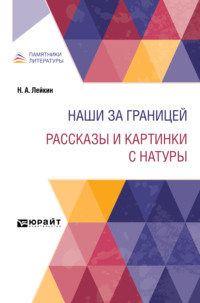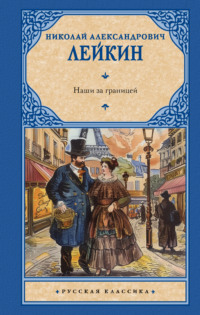Полная версия
Голь перекатная. Картинки с натуры
– Нравится? – спросил Колотов, прочитав прошение.
– Да уж чего же лучше! – отвечала женщина.
– А что насчет ревматизма, то уж наверное он у тебя есть.
– Да как не быть, миленький! Синяки и те поджить никогда не могут от него, изверга. Чуть заживет один – новый явился.
– Ну, уж насчет синяков-то помалкивай.
– Да я вам это только, голубчик.
– Неграмотная, поди?
– Да откуда же грамотной-то быть! Была бы грамотная, так сама бы написала.
– Ну, ты насчет этого не дури. Много есть грамотных, а прошения о помощи писать не могут. Тут нужен специалист. А неграмотная, то я за тебя подписаться должен.
И Колотов расчеркнулся: «Вдова крестьянка Василиса Панкратьева, а по безграмотству ее и личной просьбе расписался и руку приложил отставной канцелярский служитель Акинфий Колотов».
– Ну, теперь тебе нечего здесь торчать. Все сведения у меня о тебе есть, а остальные три прошения могу я тебе и без тебя написать, – сказал он женщине. – Я напишу, а ты сегодня вечерком или завтра утречком зайди за ними и получишь.
Женщина переминалась.
– Да лучше уж я подождала бы, миленький, потому деньги я отдала… – начала она.
– Да чего ты боишься-то, дура! Не пропадут твои деньги! – закричал на нее Колотов. – Здесь и на рубли пишут прошения, да и то не опасаются. Ступай!
Женщина нехотя медленно вышла из комнаты, бормоча:
– Так уж, пожалуйста, к вечеру, потому завтра утречком подавать думаю. Пораньше подашь, пораньше и получишь.
III
Только что удалилась Василиса Панкратова, как супруга Колотова, заглянув в двери, крикнула:
– Еще есть две. Впускать, что ли?
– Да как же не впускать-то? Ведь это заработок. Тут к празднику и на гуся, и на ветчину заработать можно, – отвечал Колотов.
– Нет, я к тому, что одна пришла без денег и платок в заклад принесла. «Получу, – говорит, – по прошениям, так рассчитаюсь и выкуплю».
– Ну, уж это играй назад. Чего ей?.. Пусть в другом месте закладывает, а сюда является с деньгами.
– Платок-то, Ермолаич, хороший. Два прошения ей, а платок больше рубля стоит.
– Ну, постой, я разберу, в чем дело.
А сзади стоявшей в дверях жены Колотова выставилась уж голова, закутанная в серый платок, и говорила:
– Здравствуйте, господин писарь! Как вас величать-то? Благородие или просто?
– Назовешь и благородием, так не ошибешься. Ну да зови просто Ермолаичем, – отвечал Колотов. – Ноги-то отерла в кухне? Отерла, так входи сюда.
– Отерла, батюшка Ермолаич. Я к вам насчет про-шениев, да дело-то мое такое сиротское.
Женщина средних лет в суконной кацавейке вошла и поклонилась.
– Очень уж мы наслышаны, что прошения-то вы сладко пишете, – продолжала она. – Есть у нас на квартире писарь, мальчик он, в школу ходит. Этот и даром или за какой-нибудь пряник напишет, да я думаю, чувствительности-то никакой не будет, так что толку-то!
– Конечно. Где же мальчишке несмышленому супротив специалиста, который все подходы знает, – гордо отвечал Колотов.
– Верно, правильно. Нам очень тебя хвалили. Ну а денег-то у меня нет. Так вот не возьмешь ли платок до субботы?
Женщина вытащила из кармана желтый шелковый набивной платок с разводами.
– Мне насчет дров прошение, – продолжала она. – В субботу мне жилец обещался отдать за угол. Подождать до субботы – боюсь с дровами опоздать. Давно уже раздают. Кабы не раздали все.
Колотов развернул платок и встряхнул его.
– Эх, горе квартирные хозяйки! Да неужто уж у тебя пятиалтынного-то на прошение нет! – произнес он.
– Есть, Ермолаич, но нельзя тоже дома без гроша быть. Я сам-четверт с ребятишками. И на картофель, и на ситный, и на треску надо, чтобы питаться, а лавочник мелочной у нас так и говорит: «Сегодня на деньги, а завтра в долг». Мне только о дровах два прошения: от себя и от сестры. Сестра при мне живет и поломойством занимается. Да и у сестры-то заработка не завалило. Без дела на кофейных переварках сидит. Вот перед самыми праздниками работа будет.
– Постой, постой… – перебил ее Колотов. – Да на одну квартиру по двум прошениям дров не выдают. Сколько ни пиши, все равно выдадут только по одному. Дают квартирной хозяйке, жилице зачем же дрова? Ее обязана хозяйка отоплять.
– Знаю я, ваше благородие, я тертый калач. Прошения я каждый год во все места подаю. Но отчего не попробовать? Может быть, и не заметят? В прошлом году мы по двум прошениям получили: и я, и сестра.
– Странно. Как же это так проглядели?
– А вот проглядели. Может статься, и нынче проглядят, так отчего лишний пятиалтынный в прошение не просолить. Надо только написать умеючи. Сейчас я тебе одну штучку скажу, ваше благородие.
– В угловом доме живешь? – перебил женщину Колотов.
– Да.
– А в угловом, так знаю я твою штучку. Одна подаст прошение с одной улицы, а другая с другой, и номера дома разные, а квартира под одним номером.
– Отчего ты знаешь? – удивилась женщина.
– Да как же специалисту-то по прошениям не знать, если уж ты знаешь! Не надо только одновременно подавать прошения.
– Удивительно, как он это все знает! – воскликнула женщина и прибавила: – Так вот, милостивец, два прошеньица в долг, а платок у тебя останется. Бедность-то только очень уж одолела.
– Ну ладно. Прошения будут готовы завтра утром. Скажи только, от кого писать, адрес, и больше ничего не надо. Завтра приходи и получишь прошения.
Колотов записал, что нужно, спросил, сколько детей у явившейся к нему женщины и сколько у ее сестры.
– Вдовы-то вы настоящие? – спросил он, провожая женщину.
– Настоящие, настоящие, венчанные. А моего покойника кто не знает? Вся улица знает. Пьяница был известный, не тем будь помянут, царство ему небесное. От вина и сгорел.
Когда Колотов выпроводил вторую клиентку, перед ним стояла маленькая древняя старуха со сморщенным лицом, выглядывавшим из платка и груды разных шерстяных тряпок, клочьев ваты и поеденного молью меха.
– Чего тебе, бабушка? – спросил он.
– Степанида Захарова, николаевская солдатка, – отвечала старуха, не расслышав вопроса.
– Понимаю, понимаю. И тридцать шесть рублей пенсии в год получаешь. Знаю я, знаю. Немного уж вашей сестры николаевской солдатки осталось. Так что тебе надо-то? В попечительство о передпраздничном пособии прошение написать?
Старуха шамкала губами. Она опять недослышала, о чем ее спрашивают, полезла в карман, вынула оттуда два медных пятака и проговорила:
– Уступи за десять копеек для старушки.
– Пятиалтынный, бабка. Дешевле несходно писать, – отвечал Колотов и закричал над самой ее головой: – Да о чем тебе прошение-то писать?
– О дровах, о дровах, о дармовых дровах, – отвечала старуха, услыхав, наконец, вопрос.
– Тоже о дровах. Да какие же тебе дрова, бабка, коли ты в углу живешь! Ведь в углу живешь?
– В углу, в углу… Два с полтиной за угол плачу.
– Ну вот видишь. Так зачем же тебе дрова-то, коли ты не квартирная хозяйка? Тебе не дадут. Не дадут тебе! – закричал Колотов.
– Отчего не дадут, коли всем дают. Что я за обсевок в поле.
– Тебя обязана отапливать квартирная хозяйка. Дров тебе не надо. Зачем тебе дрова?
– Мне-то? Продам, квартирной хозяйке продам. Ей продам. За угол сменяюсь. Да тебе мало гривенник-то, что ли? Так вот еще две копейки.
– Ничего мне не надо, ничего. Уходи. Зря о дровах писать будешь. Попусту только твои двенадцать копеек пропадут. Спрячь деньги и уходи.
Старуха не понимала и шамкала губами.
– Отчего же другие-то пишут? – спросила она наконец.
– Зря пишут. Тебе опытный человек говорит. Уходи. Мне написать прошение не лень, все-таки заработок, но я тебя же жалеючи отказываюсь. Спрячь деньги и иди.
Колотов выпроводил все еще недоумевающую старуху за дверь и сказал жене:
– А что бы нам адмиральский час справить? Сейчас пушка выпалила.
– Можно. Картофель сварился, селедка есть, – отвечала жена. – У тебя в посудине-то там осталось?
– Осталось-то, осталось, да мало на двоих. Что же нам бедняться-то? Сорок восемь копеек получил. Двугривенный министерству финансов пожертвовать можно. Ты накрывай стол и припасай все, а я живо спорхаю.
Колотов надел фуражку с замасленным красным око-лышком, взял с окна порожнюю бутылку и выбежал из квартиры.
Угловые
I
Окраина Петербургской стороны. Утро. Мелочная лавочка в доме Мумухина, весь двор которого заселен угловыми жильцами, переполнена покупателями. Все больше женщины с головами, прикрытыми платками, кацавейками вместо платков, накинутыми на голову. Изредка появится мужчина, спрашивающий табаку за три копейки, или девочка ниже школьного возраста, требующая булавок на две копейки или что-нибудь в этом роде. Мужчины на работе или опохмеляются, дети в городских училищах.
В лавке холодно, на дверях намерзли ледяные сосульки, пахнет треской, кислой капустой, дрянным деревянным маслом. Лавка освещена керосиновыми лампами, хотя уже давно на улице брезжится сероватый дневной свет. Перед иконой на самом видном месте, между банками с пастилой в палочках и с мятными пряниками, теплится лампада. Под лампадой свидетельство на мелочной торг в деревянной рамке под стеклом, а около него высятся сахарные головы в синей бумаге. За прилавком рыжебородый приказчик в замасленном картузе, в полушубке и переднике. Около него подручные мальчики. И приказчик, и мальчики мечутся как угорелые, отпуская товар. Стукают медяки, опускаемые в выручку через щель в прилавке, звякают весы, и в то же время громко происходит выкладка на счетах. Суетня страшная, а приказчик то и дело кричит на подручных мальчишек:
– Порасторопней, порасторопней, ироды! В носу не ковырять! Отпускайте покупателей!
Молодая еще, но сильно испитая женщина с подбитым глазом, выглядывающим из-под платка, ставит на прилавок глиняную чашку и делает заказ:
– На пятак студня, на копейку польешь его уксусом и постным маслом и на четыре хлеба.
– Сегодня на деньги, Марья Потаповна, – делает замечание приказчик.
– Да знаю, знаю уж я. Вот гривенник, – отвечает женщина.
– А когда же должок-то по заборной книжке?
– Да скоро. Вот уж дрова дармовые раздавать начали, так я тебе свою порцию. На что мне теперь дрова? Я в углу с лета живу.
– У Кружалкиной?
– У ней. Она же от меня и квартиру приняла. Ведь из-за того же я и прошение о дровах подала, что летось квартиру держала и в старом списке я нахожусь, что в прошлом году дрова получала.
– Дама-ворон. Я про Кружалкину. Не выпустит она твоих дров. Ведь, поди, и ей за угол должна.
– Должна малость. Да что ж из этого? Я ей из рождественских приходских уплачу. Я в приходское попечительство подавала о бедности. На Пасху на детей два рубля получила. Ах да… Дай еще трески соленой на две копейки. Сам придет, так ему мерзавчик подзакусить надо.
– Какой сам? Ведь ваш сам на казенных хлебах сидит? – спрашивает лавочник, отпуская товар, и опять кричит на мальчишек: – Поживей, поживей, щенята! Не зевать!
Женщина улыбается.
– Хватил тоже! Уж у меня с Покрова новый, – дает она ответ.
– Охота тоже… – крутит головой лавочник. – Вам, Ольга Яковлевна, что? – задает он вопрос женщине в черном платке.
– Пол стеариновой свечки можно? Мне воротнички и манишки гладить, а подмазать утюг нечем.
– Да за четыре копейки есть свечка семерик. Возьмите цельную.
Женщина с подбитым глазом, получив покупки, не отходит от прилавка.
– Ты говоришь, охота… – продолжает она разговор. – Ведь женщина я тоже… Ты-то ведь сам каждый год ездишь к своей в деревню.
– У нас законница на каменном фундаменте. Она мой дом бережет.
– Ну, не в Питере законы-то разбирать. Здесь на каждом шагу соблазн. Что своего старого забыла, то ведь как он меня утюжил-то!
– Однако и этот тоже охулки на руку не даст. Вон око-то как разукрасил! – замечает лавочник, кивая на глаз покупательницы.
– Ну, все-таки поменьше, как возможно! Ах да… Соли на копейку. Только ты поверь в долг. Больше денег нет.
– Марья Потаповна, и так за вами там больше двух рублей. Тебе чего, девочка? Гвоздей обойных? Отпустить гвоздей обойных! Никешка! Чего ты глаза-то рачьи выпустил? Вот гвоздей обойных и капусты кислой спрашивают! Вам хлеба шесть фунтов? Сейчас.
В руке лавочника блещет громадный нож. Звякают чашки медных весов.
Женщина с подбитым глазом не отходит от прилавка.
– Кузьма Тимофеич… – говорит она лавочнику. – Отпустите фунт соли-то до завтра. Фунт соли и махорки на три – так оно и будет пятачок.
– Сегодня на деньги, завтра в долг. Изволь.
– Кузьма Тимофеич, у меня сынишка нынче изрядно достает. Он счастьем на Пантелеймоновском мосту торгует, по вечерам торгует и все уж три гривенника ночью принесет. Билетики такие есть… счастье… Ну, жалостливые господа и дают ребенку.
– Скажи, какая богачка! Ну а все-таки сегодня за деньги, а завтра в долг.
– Богачка или не богачка, а коли бы мой новый собственный-то не отнимал у него на вино, то всегда бы я была при деньгах. Мальчонке иные господа и пятиалтынничек сунут.
– Так ты самого-то по шее.
– Эка штука! Он такую сдачу даст, что и сюда за студнем не придешь. Отпусти на пятачок-то товару до завтра.
– Пожалуйте хлеба шесть фунтов. А вам что? Сахару? На сколько сахару?
– Сахару полфунта и кофею четверть фунта да цикорию на пятачок, – отвечает девочка из-под ватной кацавейки, которой прикрыта голова.
– Ты чья? – спрашивает лавочник.
– Аграфены Кондратьевой, из двадцатого номера.
– А прислала мамка денег?
– Прислала.
– Клади прежде на прилавок. Ты фунт ситного стащила, не заплатив денег, когда у нас много было покупателей.
– Нет, дяденька, это не я. Это Сонька Картузова из восьмого номера. Она даже потом похвалялась.
– Клади, клади. Сахар – девять, кофе – девятнадцать, цикорий… Клади двадцать четыре копейки, – говорит лавочник, позвякав на счетах. – Народ тоже! От земли не видать, а какие шустрые.
Девочка выкладывает на прилавок медные деньги.
– Кузьма Тимофеич, отпусти мне хоть для самого-то махорки, – упрашивает лавочника женщина с подбитым глазом.
– Сегодня на деньги, завтра в долг. И трески самому, и махорки самому. Да что он у тебя за неимущий такой? Ах ты, содержанка-горе!
– Без места он. Все ищет. Ходил складывать дрова – говорит: «Трудно, да и мало платят». Не может он на черную-то работу.
– Все господа аристократы.
– Да уж, само собой, каждый ищет себе полегче. «Я бы, – говорит, – куда-нибудь в швейцары или в сторожа двери отворять».
– И на чай получать? Так. Уходи, уходи, коли денег нет. Почтенная! Вы что там по кадкам шарите? Это неучтиво. Иди сюда! Что тебе? – кричит лавочник женщине в красном платке.
– Где же шарю-то? И не думала, – отвечает она, подходя к прилавку.
– Сейчас груздь съела. Будто я не видал! Чего тебе?
– Вот бутылка. Фунт подсолнечного масла, два соленых огурца и трески на пятачок.
– Я за груздь, как хочешь, копейку считать буду.
– Ну вот… Со своей-то покупательницы!
– Отвесить фунт масла подсолнечного! – кричит лавочник мальчишкам.
Дверь хлопает, и покупателей прибавляется.
II
В мелочной лавочке появляется здоровый белокурый детина с бородкой, в бараньей шапке, валенках и нанковом пальто, опоясанном ремнем. Он полупьян, ищет чего-то глазами и, наконец, спрашивает, неизвестно к кому обращаясь:
– Марья здесь?
Какая-то баба в сером платке, грызущая, как белка, подсолнухи, оборачивается и говорит:
– А какую тебе надо? Здесь Марьев-то этих самых хоть отбавляй.
– Марью Потаповну. Да вон она… Ты чего тут зря топчешься, беспутная? Иди домой!.. – говорит детина, увидав женщину с подбитым глазом, стоявшую около прилавка.
Та тотчас же оробела.
– Да ведь тебе же на обед студню покупаю. Вот ситного взяла, – отвечала она, подходя к нему.
– Обязана дома быть. На квартиру тебе повестка пришла, что по прошению твоему на бедность вышли тебе дрова. Возьми вот повестку и иди получать билет на дрова, а затем с билетом марш на дровяной двор! – командует детина. – Ищу, ищу бабу по двору у соседей, думаю, что в трактир за кипятком ушла, – я в трактир. А она, изволите видеть, в лавочке бобы разводит! – прибавляет он.
– Да ведь надо же поесть чего-нибудь купить. Чего раскричался-то!
– Ну-ну-ну… Не разговаривай! Живо!.. Селедку мне купила?
– А на какие шиши, спрашивается? Ведь в долг больше не дают. Вот отдам я дрова лавочнику за долг, тогда можно и селедками баловаться. Кузьма Тимофеич! Дрова-то уж мне обозначились, – обратилась она к лавочнику. – Вот я вам их за долг и отдам. Мне зачем они? Я в углу живу.
– Стой! – схватил ее за руку белокурый детина. – Дрова твои я не выпущу. Я их нашему портерщику обещал.
– Нет. Михайло Никитич, нет, – испуганно заговорила женщина с подбитым глазом. – Их надо Кузьме
Тимофеичу. Ведь это за харчи пойдет. Суди сам, ведь ты требуешь и селедки, надо тебя и кофеем напоить.
– Вздор. Васюткиными деньгами расплатишься. Приструнь Васютку, чтобы счастье старательнее продавал.
– Да ведь и Васюткины деньги ты отбираешь.
– Выходи на улицу, выходи. Сейчас за билетом на дрова ты пойдешь, а чашку с едой мне передашь. Я дома буду.
И белокурый детина вытолкал Марью за дверь.
Они очутились на улице.
– Отдай, Михайлушка, дрова-то лавочнику, будь умный, – упрашивала Марья своего сожителя Михайло. – Отдай. Тогда он опять начнет в долг верить и ты сегодня с селедкой будешь.
– Да разве уж половину из того, что ты получишь. А другую половину портерщику. Я ему обещал. Он человек тоже нужный.
– Ну вот, спасибо, ну вот, хорошо. Люблю я, Мишенька, когда ты сговорчивый… – говорила Марья.
– Сговорчивый. Учить вашу сестру надо. Ну, вот тебе повестка, и иди за дровами.
– Позволь. Как же я пойду, не одевшись-то? Ведь холодно в одном платке. Надо будет зайти домой и кацавейку надеть.
– Ну так живо, живо. Не топчись! – говорил Михайло, провожая Марью. – По скольку дров-то выдают?
– По полусажени. Меня ведь, Мишенька, за квартирную хозяйку сочли, а знали бы, что я в углу живу у хозяйки, так и совсем не выдали бы дров. И когда я прошение подавала, то написала, что я вдова с тремя малолетними детьми. Ну что ж, ведь летось я была хозяйка и держала квартиру, – рассказывала Марья, свернув в ворота и идя по двору.
– Ужасно много ты любишь разговаривать! – пробормотал идущий за ней следом Михайло. – А ты дело делай, старайся больше в разных местах добыть, а разговаривай поменьше. Теперь перед Рождеством везде раздавать будут и разное раздавать – вот ты и подавай прошения.
– Да я уж и так подала в приходское общество. В прошлом году я два рубля получила.
– Что общество? Ты в разные места подавай. Два рубля. Велики ли это деньги – два рубля!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.