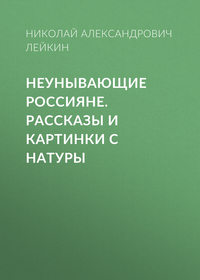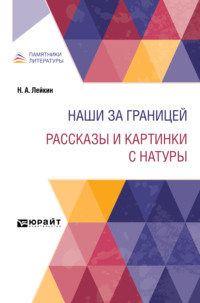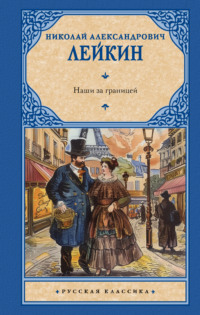Полная версия
Голь перекатная. Картинки с натуры
– Да знаю я, – опять буркнул Чубыкин.
– И она ко мне склонна. Вышила мне малороссийскую рубаху красной и синей бумагой в свободное время, когда у нас пения нет. Глазками стреляет, руку мне жмет. А наши бабенки все в одно слово: женись да женись на ней.
– И ты женился на ней?
– Женился, братец ты мой, и с той поры стал за ней уж в оба глядеть, чтоб она с гостями не того… не очень-то амуры разводила. А она мне такие слова: «Наша, – говорит, – жизнь такая, без этого невозможно». И вот, когда она на коленках у какого-то пьяненького офицера сидела, я ее стащил да и побил. Да и с офицером-то в драку полез. Ну, содержатель хора сейчас мне отказ. Ну, отказ так отказ. Свет не клином сошелся. Хоров всяких много. «Пойдем, – говорю, – Наташа». – «Нет, – говорит, – я здесь в хоре останусь». Ах, чтоб тебе!.. Опять побил… Наконец, плачу, рыдаю, упрашиваю: «Уедем отсюда». В Нижний нам место выходило. Никакого толку. Паспорта я ей не даю, а она живет на квартире с подругами-певицами и поет. Меня ни в хор, ни в заведение не впускают. Пью я, хожу пьяный, скандалы делаю, полиция протоколы составляет. Ну, попал я к мировому, судили меня и за скандалы на шесть недель в кутузку. Наташе на прожитие вид выдали. Сижу я на казенных хлебах, отсиживаю. Денег нет. Пишу ей: «Пришли мне, Наташенька, хоть на табак и на булку». Никакого ответа. Отсидел я, вышел на волю – и вдруг узнаю, что Наташенька моя из хора сбежала, при купце-хлебнике живет и уже на паре рысаков в наш увеселительный сад приезжает. Иду к ней – такие, братец ты мой, караулы, что и сказать невозможно. С парадного крыльца швейцар не пускает. Я с заднего хода в кухню, бунтую: «Предоставьте мне Наталью Васильевну, я муж ее». Сейчас это дворники явились, драка, повели меня в участок, протокол, опять я у мирового, и опять меня на высидку. Сижу опять… Вдруг приезжает ко мне какой-то с черной бородой, в бриллиантовом перстне и на вид из иудина племени. «Я, – говорит, – от жены вашей Натальи Васильевны. Не желаете ли вы ей выдать от себя постоянный отдельный вид на жительство? А за этот вид и за то, чтоб вы ее больше не тревожили, купец Малмыжин предлагает вам пятьсот рублей». Купца Малмыжина знаешь? – спросил Скосырев Чубыкина.
– Нет, не знаю… – отвечал тот, зевая. – Да говори скорей. Спать пора. А то в ночлежном места прозеваем. Надо торопиться. Лучше зайдем в портерную и выпьем по бутылке пива.
– Пивка важно выпить! – потер руки Скосырев. – Тоже потчуешь?
– Сказал, так не отопрусь, – проговорил Чубыкин, поднимаясь из-за стола, и спросил: – И ты ей выдал паспорт?
– Выдал. За шестьсот рублей выдал. Что ж, насильно мил не будешь. И как же я гулял тогда, получивши деньги! Гулял прямо с горя. Так гулял, что очутился в больнице. Вышел – и ни гроша…
Чубыкин выходил из закусочной и бормотал:
– Ну, я-то прогулял в моей жизни куда больше!
Скосырев шел сзади его и обидчиво говорил:
– Да ведь не об этом речь. А только что ж ты не спросишь, жива ли Наташа-то?
– Да уж, наверное, жива. Что бабам делается! Они живучи, как кошки.
– Жива. И теперь актриса. В провинции в оперетках поет. Но я еще не все тебе рассказал. Не все… Надо тебе знать конец… отчего я в отчаяние пришел и золоторотцем стал.
– Ну, в ночлежном расскажешь. Я люблю, кто мне под ухом шепчет, когда я засыпаю, – закончил Чубыкин и зашагал по тротуару.
IX
Опять вышли вместе из ночлежного приюта Пуд Чубыкин и Серапион Скосырев, хотя ночью и были разъединены. Явясь вчера в приют поздно, они двух коек рядом уже не нашли. Было еще темно, когда они вышли на улицу вместе с другими ночлежниками. Товарищи их торопились искать заработка. Ночью выпал обильный снег, была метель, занесло полотно конно-железных дорог, и они торопились в управление парка наняться в метельщики для расчистки пути. Они звали с собой и Чубыкина с Скосыревым, но те отказались.
– Непривычны мы к этому. Не того воспитания, – объявил Чубыкин.
– Козырь! А ты-то что ж? Ты ведь когда-то хаживал снег разметать. Я помню… – сказал ему ночлежник в сермяжном армяке.
– Хаживал, когда брюхо подводило, а теперь денежки в кармане звенят, – отвечал Скосырев.
– Вишь ты, богач какой стал! А если так много настрелял, то что бы своего брата – лужского кадета попотчевать.
– Какой ты лужский кадет! Ну что ты мелешь! Ты в Луге только живал на работе, а не подневольный, стало быть, и кадетом называться не можешь, – заметил сермяжному армяку Скосырев.
– Отчего он тебя Козырем называет? – поинтересовался Чубыкин, обратясь к Скосыреву.
– Прозвище мне такое дали в Луге. Я – Скосырев. Сначала Скосырем звали, а потом переделали на Козыря. Так и пошло.
– А все-таки ты работаешь иногда?
– Разгребал снег раза три-четыре в прошлом году – вот он и помнит.
– Ну, стало быть, ты не пропадешь еще без милостыни. А я вот ни на какую такую работу пойти не могу. Не привычен. Пробовал я, но что же? На какие-нибудь полчаса, а там руки заломит, коленки затрясутся, спина как чужая, а с самого пот градом – ну, и бросай дело, – сознался Чубыкин. – Человек из-за прилавка ни на какое такое дело не годен.
Чубыкин и Скосырев шли по тротуару тихо, нога за ногу, бесцельно. На улице только еще показывался народ, так что и просить милостыню было не у кого. Магазины и лавки, кроме мелочных и булочных, были еще заперты. На углах дремали в санках ночные извозчики, а утренние еще не выезжали. Дворники счищали с тротуаров скребками выпавший за ночь и притоптанный снег. Скосырев спохватился.
– Однако куда же мы идем?
– Я пробираюсь в свой рынок, где дядя торгует. Вчера я там не всех еще обошел, да и дядю не видал, – отвечал Чубыкин. – Сегодня надо перед дяденькой объявиться и заполучить с него что-нибудь, но он раньше десяти часов в лавку не выходит. Вот я и думаю зайти в чайную и чайку попить.
– Ах ты, купеческая натура-самоварник! Ведь уж выпили в ночлежном по кружке. Вот тебя по чайной траве сейчас и заметишь, из какого ты сорта, – сказал ему Скосырев. – А по мне, что зря теплую-то сырость в животе разводить! Лучше же благословиться мерзавчиком.
– Это я само собой сделаю, как только винные лавки отворят, а надо же нам где-нибудь промаячить время, пока стрелять будет можно. Ну а за чаем в тепле и все этакое…
– А к заутрени? Теперь утреня идет.
– Да ведь на ногах стоять. А в чайной тебе стул и стол. Покурить можно.
– И то в чайную зайдем, – согласился Скосырев. – Там газетку можно спросить, посмотреть, какие сегодня покойники на кладбищах хоронятся. Где купцов побольше, туда и пойду пострелять. За упокой души хорошо подают.
– Кутейника на кутью и тянет, – улыбнулся Чубыкин.
– А что ж из этого? Ты в рынок к своим, а я на кладбище. Ведь ты меня с собой в рынок не возьмешь.
– Сам знаешь, что стрелять надо в одиночку. Ты не слепой, чтоб тебя водили. Только слепые попарно.
Они зашли в попавшую по дороге чайную.
В чайной сидели извозчики в нагольных полушубках и валенках, сидели разносчики с жестянками у пояса, два-три слесаря или кузнеца с руками и лицами, вымазанными сажей, баба в красном платке с грудным ребенком за пазухой армяка, трубочист, два дворника, около которых на столе лежали два картуза с медными знаками.
Чубыкин и Скосырев сели за столик около окна. Скосырев сейчас же взял обтрепанную вчерашнюю газету и стал рассматривать публикации о покойниках.
– По кладбищам чем хорошо просить? – сказал он. – Безопасно. Не ловят. Туда полицейские почти не заглядывают.
– Нет, уж ты такого племени. Тебя тянет туда. Покойник тебе мил, – опять сказал ему Чубыкин.
– А что ж, может быть, и так, – согласился с ним Скосырев. – Да мне и быть бы при деревенском кладбище, жить бы на погосте, если бы я с моей Натальей Васильевной повенчавшись не был. Ведь дядя-то мой протопоп все-таки схлопотал мне место дьякона в деревню на причетнический оклад. И куда схлопотал-то? В тот же самый Лужский уезд, куда я теперь высылаюсь. Схлопотал, – рассказывал Скосырев, – но поздно вышло. Женат уж я был, хоть и продал свою жену.
– Да ведь духовные-то и должны быть женатые, – возразил Чубыкин.
– Правильно. Но для получения места-то тут должен быть непременно холостой, взять за себя сироту, дочь умершего дьякона, и кормить и старуху-тещу, и сестренок невесты. По-нашему, по-кутейнически, это называется «со взятием». Дают при невесте место в приданое – ну, ты и кормись на этом месте, да и семью невесты корми. Ну, дядя разыскал меня, принял, ругательски изругал меня за жизнь мою беспутную и говорит: «Хотя ты и великий грешник, а все-таки Бог тебе счастье посылает. Сходи ты в баню, отпейся чаем и квасом, почистись, постригись, принарядись и поезжай на показ к невесте и ее матери. Денег я дам на дорогу». Слушал я это, слушал, да как разрыдаюсь перед дядей. «Что ты, – говорит дядя, – что ты, беспутный? Чего ты? Или это слезы раскаяния?» Тут я ему и объявился: «Дяденька, я уж давно женат, но только с женой разошелся». – «Когда? Где? Как? Отчего же ты к дяде за благословением не явился?» Ну, тут я ему всю подноготную… Услыхал и выгнал вон… И уж с той поры к себе не принимает. Так вот… Дьяконом бы мне быть, и назывался бы я «отче», как ты меня вчера называл, если бы не любовь моя проклятая к Наташе, – закончил Скосырев. – Глуп был, неопытен.
Светало. Сидя за столом у окна, Скосырев заметил бегущих по улице школьников – мальчиков и девочек с сумками – и сказал Чубыкину, поднимаясь из-за стола:
– Ребятишки в училище побежали. Тебе рано еще в рынок, ты посидишь, а мне на кладбище пора. Далеко ведь. Когда-то еще туда дошагаешь! Если вздумаешь со мной вечером встретиться, то я буду в том же ночлежном. Прощай.
Он протянул руку Чубыкину и вышел из чайной.
X
Около одиннадцати часов утра Пуд Чубыкин был у своего дяди в лавке. Чубыкин был уже навеселе. Войдя в лавку, он отдал приказчикам честь по-солдатски и затем уже снял шапку.
– Отец игумен в монастыре? – спросил он.
Приказчики переглянулись.
– Я про дяденьку Осипа Вавилыча, – пояснил Чубыкин.
– За перегородкой чай пьет, – отвечал один из приказчиков.
Чубыкин сделал движение, чтобы направиться за перегородку.
– Постой, постой… Куда лезешь!.. Надо прежде доложить.
Приказчик отправился за перегородку, вышел оттуда и поманил Чубыкина.
Через минуту Чубыкин предстал перед дядей. Дядя, пожилой человек с проседью в бороде и в волосах, в барашковой скуфейке на голове, сидел за высокой ясневой конторкой, на которой лежала книга. Завидя Чубыкина, он покачал головой, сморщился и крикнул ему:
– В ноги, несчастный!
Чубыкин рухнулся перед ним на колени и стукнул лбом в пол.
– Встань… – скомандовал ему дядя. – Зачем ты пришел к нам, горький? Зачем? Чтобы опять срамить нас? – задал он ему вопрос.
– На родину тянет, дяденька. Я ведь здесь родился. Каждый уголок мне знаком, каждая физиономия личности в рынке. А ведь у нас в Шлиссельбурге житье каторжное.
– Зато пьяное.
– Ах-с… Бросьте… Который денек на вино двугривенный очистится, так уже считаешь себя счастливым. А то и на хлеб-то не хватает.
– А ты уж вино считаешь важнее хлеба.
– Болезнь… Сосет… Да и единственная услада в нашей собачьей жизни, дяденька.
– Хочешь, я в больницу тебя положу и лечить буду? – предложил дядя. – Теперь от вина лечат, настоящие доктора лечат, а не какие-нибудь знахари.
– Бесполезно. Меня не вылечат. Да если и вылечили бы, что я трезвый делать буду, куда я пойду?
– Тогда можно поприодеть тебя и место тебе какое-нибудь найти.
– Помогите уж так, дяденька. Дайте денек-другой пожить всласть…
– Это ведь значит на вино тебе дать. На вино ты просишь.
– Не скрываюсь. Погуляю на свободе и опять в нищенский комитет попаду. Перешлют.
Дядя покачал головой и прищелкнул языком.
– И это ты прямо мне в лицо, без зазрения совести говоришь, – сказал он. – Бесстыдник!
– Что же делать-то, дяденька! Зато не вру… – отвечал Чубыкин. – Несчастный я человек.
– А если бы тебя в монастырь послать на покаяние, грехи замаливать? Тут даже говорили у нас в рынке, что мы тебя на Валаам в монастырь послали.
Чубыкин отрицательно отмахнулся головой.
– Думаю, что бесполезно. Выгонят. Как только напьюсь – и протурят.
– Там ведь вина достать негде. Там следят.
– Вино во всяком месте достать можно, дяденька. Да и не чувствую я призвания, не такой я человек. Погибший я человек, – отвечал Чубыкин.
Дядя задумался и через минуту произнес:
– Ну что нам с тобой делать?
– Помогите, не мудрствуя лукаво, несчастному человеку, – поклонился в пояс Чубыкин.
– Да ведь на вино просишь ты, на вино. А на вино я дать не могу.
Чубыкин тяжело вздохнул.
– На вино-с…
– Одеть тебя благопристойно – пропьешь.
– Пропью, дяденька. Да и зачем вам одевать меня? Дорого стоит. А лучше выдайте так три-два рублика и пары две белья на передевку. В баню надо сходить, а перемениться нечем.
– Белье тебе сейчас дадут. А денег не дам, не дам нынче. И не ходи ты ко мне домой. И дома я скажу, чтоб тебе не давали. Да и не срами меня дома, пожалей.
– Домой к вам не пойду. Хорошо, извольте. За белье спасибо… Дай вам Бог здоровья. Но уж зато и вы пожалейте меня несчастного – дайте денежной милости рублик. Пить-есть надо.
– Если хочешь, тебя здесь на дворе приказчики накормят.
– А ведь вам это все-таки неприятно будет, все-таки мараль на вас. Так дайте рублик-то, и я в закусочную пойду.
Чубыкин опять поклонился. Дядя размышлял.
– Положим, ты уж и так нас вконец здесь осрамил, – произнес он. – Ты который день по рынку-то ходишь?
– Второй. Только второй-с.
– И всех обошел?
– Нет, дяденька, не всех еще.
– Хорошо, я дам тебе белье и два рубля денег, но и ты мне дай слово, что больше у нас в рынке не покажешься. Даешь слово?
– Могу, дяденька. Позвольте только папаше в сумеречках объявиться. Надо будет с него заполучить малую толику за нынешнее прибытие из богоспасаемого града…
– Ты шутовства-то передо мной не выкидывай! – строго перебил его дядя, нахмурив брови.
– Я всерьез, дяденька. Ведь папаша мой маменькиным-то капиталом после ихней смерти овладел, а он по закону мне принадлежит, так должен же он хоть чем-нибудь со мной поделиться.
– Ну, к отцу я допускаю, – согласился дядя. – А по чужим торговцам в нашем рынке больше ходить не будешь?
– Извольте, дяденька, обещаюсь.
– Бери два рубля, бери! Хоть и совестно мне давать тебе заведомо на вино.
– Ах, дяденька…
– Уходи! Довольно! – махнул рукой дядя. – Кондратьев! Дать Пуду две перемены белья из лавки, да и пусть уходит с Богом! – крикнул он приказчику в лавку, а Чубыкину сунул в руку не два, а уж три рубля.
– Благодарю покорно, дяденька.
– Уходи, уходи! И уж больше ни ногой… За это даже три рубля даю.
Чубыкин вышел из-за перегородки. Приказчики дяди тотчас же вручили ему две пары белья. Он запихал белье под пиджак и кацавейку и затянулся ремнем.
– Так целее будет. Мы люди походные… – пробормотал он, выпросил еще у приказчиков двугривенный и удалился, расшаркавшись перед ними валенками.
XI
Чубыкин сдержал данное дяде слово и уж в этот день в рынке и около рынка больше не появлялся. Он даже вообще не просил сегодня больше милостыни, чувствуя, что в кармане его звенят четыре с чем-то рубля, и отдался бражничанью в закусочных и чайных той местности, где помещался ночлежный дом, в котором он провел две ночи, разумеется не забывая и винных лавок. В закусочных ел он только селянки, кильки, сосиски, сырую кислую капусту. Он ждал Скосырева, с которым, по условию, должен был встретиться около ночлежного приюта, когда Скосырев вернется с кладбища. Визит свой к отцу Чубыкин отложил до завтра или послезавтра, приберегая ту срывку, которую он сделает с отца, к такому времени, когда от имеющихся в кармане четырех рублей останется очень немного.
Со Скосыревым Чубыкин встретился только в сумерках в винной лавке, близ ночлежного дома. Чубыкин купил себе мерзавчика и выходил из винной лавки, а Скосырев входил в винную лавку за мерзавчиком. Чубыкин был уже пьян, а Скосырев еще пьянее его.
– Не попался? – спросил его Чубыкин.
– Как видишь, на свободе, хотя на Васильевском острове и удирал от фараона, – отвечал Скосырев. – Даже свистки тот давать начал, но я под ворота, на двор и сел за поленницами дров. Спасибо, что не надул и пришел к товарищу, – прибавил он. – Сегодня я тебя, Пудя, сам попотчевать могу… Невестке на отместку… На кладбище стрелялось важно.
– Ну?! А я, как обещал, для бани тебе переодевку белья принес.
По мерзавчику Чубыкин и Скосырев выпили тут же на тротуаре около винной лавки и закусили баранкой, которую Скосырев имел при себе.
– Так пойдем в баню-то? – предложил Скосырев. – У меня грешное тело давно бани просит.
– Завтра. Завтра утречком мы в баню пойдем, а сегодня я гулять хочу, кутья поповна, – отвечал Чубыкин. – У! Загуляла ты, ежова голова! – воскликнул он, как-то заржал от восторга, крутя головой, и стукнул ногой в тротуар. – Потчуй меня, товарищ, сегодня, пои вином, корми селянкой!
– Дурья голова, да одно другому не мешает. Баня баней, а угощенье угощеньем. Сначала попаримся, а потом и угощаться будем.
– Брось. Завтра утром будем в бане хмель выпаривать, а сегодня гуляю!
И Чубыкин уже стал выбивать ногами дробь на тротуаре, так что стоявший невдалеке от него на посту городовой подошел к нему и погрозил пальцем, сказав:
– Проходи, проходи! Около казенки безобразничать нельзя.
Чубыкин и Скосырев пошли по тротуару.
– Право, пойдем в баню, товарищ…. – уговаривал Чубыкина Скосырев. – У меня живого места нет, где бы не чесалось. С бани будет легче.
– Доктора говорят, что пьяному в баню ходить вредно.
– Ну?! Смотри, о чем заговорил! Да когда ж ты трезвый-то будешь? Ведь завтра, как выйдешь из ночлежки, так сейчас же опохмелишься.
– Из ночлежного? Нет, поднимай выше! Сегодня я в ночлежный-то и не загляну. Ночлежный – это монастырь. Туда хмельного и не впустят. А я гулять хочу. Пойдем, кутья, торбан слушать! Я знаю один постоялый двор, где на торбане играют. Музыку, музыку хочу! Пить будем.
Чубыкин снова начал приплясывать.
– Ну и здорово же ты, должно быть, настрелял сегодня! – крикнул Скосырев.
– Есть… Есть в кармане! Звенит. Дядя от меня сегодня тремя рублями откупился. Ведь у него-то я бельишко и вымаклачил для бани. Угощай, кутья!
– И не отрекаюсь. Веди на постоялый. Бутылка моя. Больше я не в состоянии, а бутылку – изволь.
– С селянкой обязан! – крикнул Чубыкин. – Я тебе рубаху с портами припас, черт паршивый!
– И с селянкой могу. На постоялом будем пить за упокой рабов Божиих Герасима и Анны. Так сегодня на кладбище приказывали.
– Плясать хочу!
Чубыкин продолжал приплясывать. На него напал какой-то хмельной восторг.
– Тише ты, тише. Не попади вместо постоялого-то в часть… – предостерегал его Скосырев. – Гляди, вон, городовой смотрит.
– Ты меня вином и селянкой, кутья, потчуй, а я тебя пивом, – говорил Чубыкин, утихнув и косясь на городового, но как только прошли мимо него, сейчас же воскликнул: – Ох, много я сегодня прогулять могу! И плясать буду. Танцы танцевать. Я знаю такое место, где плясать буду. Песни петь стану.
– Ну, веди, веди, – спокойно говорил ему тоже уж заплетающимся языком Скосырев. – Я сам тебе песню спою. Нашу семинарскую песню: «Настоечка двойная, настоечка тройная»…
– Знаю! Сами певали! – перебил его Чубыкин. – «Сквозь уголь пропускная – удивительная»…
– Тише! Не ори! Видишь, повсюду городовые…
– Ну и что ж из этого? Что ты меня все городовым пугаешь! Что мне городовой? Я милостыню не стреляю, а только веселюсь. Душа чиста – ну и веселюсь.
– Да ведь и за песни сграбастать могут. Нарушение общественной тишины и безопасн…
Скосырев запнулся.
– Ищи, Спиридон, винную лавку и покупай еще по мерзавчику, – сказал ему Чубыкин.
– А дойдем ли тогда до постоялого-то? Как бы не расхлябаться.
– На извозчике поедем, Спиридон. Уж кутить так кутить! Гуляй, золоторотцы!
– Вот оно куда пошло! А только что ж ты меня все Спиридоном… Не Спиридон я, а Серапион.
– Ну, Серапион, черт тебя задави. А все-таки ты Спиридон поворот. И я Спиридон поворот. Нас вышлют из Питера, а мы поворот назад, – бормотал Чубыкин.
Винная лавка была найдена. Скосырев зашел в нее, купил два мерзавчика, и они были выпиты. Чубыкин сделался еще пьянее и стал рядить извозчика.
– На Лиговку… К Новому мосту… – говорил он. – Двугривенный.
Извозчик смотрел на золоторотцев подозрительно.
– С собой ли деньги-то захватили? – спросил он.
– Не веришь? – закричал ему Чубыкин. – Бери вперед двугривенный! Бери!
– А поедем и по дороге сороковку купим, так и тебя распить пригласим, – прибавил Скосырев.
Извозчик согласился везти. Они сели и поехали. Чубыкин, наклонясь к уху Скосырева, бормотал:
– А ты, кутья, такие мне песни спой, какие ты в хору по садам пел. Эти песни я больше обожаю. Ах, товарищ! Что я по садам денег просадил – страсть!
– Могу и эти песни спеть, могу… – отвечал Скосырев.
XII
На другой день утром Чубыкин и Скосырев проснулись на постоялом дворе. Они лежали рядом на койке, на войлоке, в головах у них была перовая подушка в грязной тиковой наволочке. Лежали они не раздевшись, как пришли с улицы, Чубыкин был даже опоясан ремнем. Чубыкин проснулся первым, открыл глаза и увидел стену с замасленными пестрыми обоями.
«На постоялом дворе мы, а не в участке и не в ночлежном, – промелькнуло у него в голове, как только увидал он бумажные обои на стене. – Ну, слава богу, не попались!»
Он начал припоминать, что было вчера, и не мог сразу вспомнить, настолько пьяно закончил он вчерашний вечер. Он помнил только, что ехал на извозчике вместе со Скосыревым на постоялый двор на Лиговку, долго отыскивали они его, заезжали в винные лавки, покупали полубутылки, пили, раскупоривая посуду на улице, угощали извозчика. Чубыкин помнил, что они приехали на постоялый двор, но что было дальше, память не подсказывала ему. Только потом, минут пять спустя, начала восстановляться перед ним физиономия какого-то черноусого человека, игравшего на гармонии с ним за одним столом. Кажется, что люди пели, а он плясал.
За стеной начали бить часы такими ударами, словно они кашляли. Чубыкин стал считать и насчитал одиннадцать.
«До чего проспали-то! Словно господа…» – подумал он и решил, что надо вставать.
Он поднял голову, но голова была настолько тяжела и так кружилась, что он снова опустил ее на подушку.
«А здорово вчера хрястнули! Выпито было много, – пробежало у него в мыслях. – Голова как пивной котел».
Через несколько минут он повторил попытку встать, придержался рукой за стену, но для того, чтобы спуститься с койки, пришлось растолкать спавшего еще Скосырева, что он и сделал.
– Ты тут? – были первые слова Скосырева, когда он продрал глаза. – На постоялом мы, кажется? Ловко, что не попались. А ведь что выпито-то было!
Оба они сели на койку и держались за головы.
– Фу, как скверно! – произнес наконец Скосырев.
– Вставай. Разомнешься… – отвечал Чубыкин и сам встал, но его так качнуло в сторону, что он опять по-придержался за стену. – Наблудили мы с тобой, Скосырь…
– Зато важно погуляли. Напиться бы теперь чего-нибудь. У меня язык как суконный.
– А деньги-то есть ли?
– Надо пошарить. Ведь что вчера выпито-то было!
– Много. Ты помнишь ли, что вчера здесь на постоялом было? – спросил Чубыкин.
– Да что было? Пили, ели.
– А с кем? Компания какая была? Кто с нами был?
– Ничего не помню, – сознался Скосырев, шаря по карманам, и тотчас же сказал: – У меня ни копейки не осталось. Была медная солдатская пуговица, да и та исчезла.
Шарил в карманах и Чубыкин.
– Постой… Что-то есть, – проговорил он и вынул из штанов три копейки, а затем две.
– Все? Только-то и осталось? – удивился Скосырев.
– Вот гривенник еще… – произнес Чубыкин, вытаскивая из пиджачного кармана маленькую монетку. – Стой! Еще копейка есть! – радостно воскликнул он.
– А вчера ты говорил, что было четыре рубля?
– Было, да сплыло, друг. С походцем четыре рубля было.
– Ловко! Сколько прокутили-то! Ведь и я вчера на кладбище около рубля настрелял.
– Может быть, и обшарили нас, – сделал догадку Чубыкин. – Ведь ничего не помню, что было, с кем гуляли.
– Пошарь еще…
– Да чего ж тут шарить-то! Все карманы обшарил.
– Тут ведь и на два мерзавчика не хватит, чтобы опохмелиться.
– Где хватит! Надо опять стрелять. На баню хватит.
– Не вывалилось ли что на койку?
Скосырев поднял подушку, но под подушкой лежала только посуда от сороковки водки.