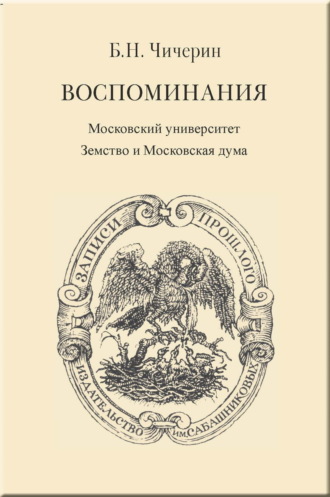
Полная версия
Воспоминания. Том 2. Московский университет. Земство и Московская дума
К счастью, в Фридрихсгафен приехала великая княгиня Елена Павловна со своею свитой. Среди придворной суеты и пустоты это было для меня умственное и сердечное отдохновение. После первого вечера мы возвращались домой вместе с баронессой Раден. «А знаете ли, – сказал я – ей, что король вюртембергский, который слывет далеко не за умного человека, сделал на меня хорошее впечатление. Он подошел ко мне и стал говорить о своих путешествиях. Это – первое человеческое слово, которое я слышу на этих придворных обходах». Она расхохоталась. «Это я ему непременно скажу, – отвечала она. – Представьте, он вас принял за отчаянного республиканца; говорит, что вы слушаете с таким высокомерным видом, как будто все, что вам говорят, не стоит внимания». Я заметил, что это вероятно происходит оттого, что они все привыкли видеть вокруг себя раболепные физиономии, и когда их не встречают, находят это странным и неприличным. На следующий день король вюртембергский отыскал меня в толпе и долго беседовал со мною. Он, видимо, был польщен моим отзывом.
Из Фридрихсгафена мы поехали на поклонение к другому старому родственнику, будущему императору Вильгельму, который в это время находился в Потсдаме. Опять пошли представления, мундиры, парадные обеды, которые отличались только тем, что здесь была несметная толпа генералов и все носило военный характер; пошли обходы с пустыми разговорами и, наконец, неизбежное пожалование крестиков. Федор Адольфович пришел сообщить мне с огорчением, что нам дали самый маленький орден короны. Я воспользовался пребыванием в Потсдаме, чтобы всякий день ездить в Берлин, где я проводил утро, осматривая музеи и рыская по продавцам гравюр.
Наконец, в Киле мы сели на царскую яхту, которая привезла нас в Копенгаген. Наследник с графом Строгановым и Рихтером тотчас отправились в загородный дворец, где находилась королевская семья, а прочие остались в Копенгагене дожидаться результата. К вечеру нам прислали сказать, что мы можем ехать с поздравлением. Мы встретили молодую чету в коридоре, отправляющуюся вдвоем, под руку, в свои апартаменты. Это была одна из самых радостных минут моей жизни. Оба были молоды, красивы, влюблены друг в друга; оба сияли счастием. Будущее представлялось в самом радужном свете не только для них самих, но и для всей России. Мы с неудержимым порывом бросились их поздравлять. А шесть месяцев спустя, мы провожали гроб нареченного жениха, увядшего в цвете лет.
Однако любовь его не пропала даром. Избранная им невеста сделалась русскою императрицею и проявила на престоле те прекрасные сердечные свойства, которыми одарила ее природа. Иным это казалось мало. Граф Строганов, который требовал от императрицы ума, образования и характера, способных поддержать высокое общественное и всенародное положение, приходил иногда в отчаяние. Глядя на сохранившуюся до зрелых лет неумеренную любовь к танцам и нарядам, он с горечью говорил: «C’est une poupee de Saxe!»[58]. Ho этот приговор был слишком строг. Она гораздо более, нежели саксонская кукла: она – чистое и любящее существо, добрая жена и нежная мать. Ей в значительной степени нынешняя царская семья обязана тем счастливым семейным бытом, который составляет лучшее ее украшение. Когда изредка случается представляться императрице, меня всегда пленяет ее милый и приветливый взгляд, ее ласковая улыбка, даже некоторая робость и неумение выражаться, несвойственные высокому сану. Я вспоминаю ту поэтическую минуту, когда я видел ее молодою и счастливою, под руку с столь же счастливым царственным женихом, и мне кажется, что не даром он отдал ей свое сердце. Мы две недели прожили в находящемся близ Эльзенёра загородном дворце датского короля, Фреденсборге. Для влюбленной четы время, конечно, быстро летело, но мне оно показалось очень долгим. Придворная скука совсем меня одолела. Для человека, привыкшего к серьезным умственным интересам, этот быт через некоторое время становится невыносимым. Я не тяготился этикетом; напротив, я находил его чрезвычайно удобным, ибо знаешь заранее все, что нужно делать. Меня даже забавлял вид торжественных церемоний в довольно патриархальной среде. Перед обедом все собирались в аванзале, а царственные особы проходили в гостиную. Старый гофмаршал с важностью затворял двери, пока те строились в ряд. Затем дверь с шумом растворялась, и вся процессия попарно шествовала торжественным ходом мимо нас. За нею все устремлялись в обеденную залу, где каждому назначено было свое место. За обедом еда была некоторого рода развлечением; но самое убийственное начиналось после. Каждый из членов королевской семьи считал непременною обязанностью ежедневно обойти всех и всякому сказать приветливое слово. Намерение было самое похвальное; но приветливые слова исчерпывались, и говорить было решительно нечего. Я старался прятаться где-нибудь сзади, в надежде, что меня не заметят, но редко удавалось ускользнуть от разговоров. Однажды я в грустном ожидании стоял поодаль, рядом с милейшим и добродушнейшим капитаном царской яхты Дмитрием Захаровичем Головачевым, и вдруг мы видим, что после всех пускается в движение какая то молодая королевская родственница, гостившая в Фреденсборге. «Господи, и эта со своими подходцами!» – воскликнул он в отчаянии. Хорошо еще, когда этим все кончалось; но обыкновенно после роспуска нас ловили и приглашали на вечер. Не могу забыть, как я раз, получивши такое приглашение, зашел сообщить это печальное известие графу Строганову. Старик только что снял мундир, облекся в халат и уселся спокойно писать письма домой. Как теперь вижу его негодующую физиономию: «О, о, о! Это уж слишком», – воскликнул он, качая головой. Чтобы избавиться от придворных приемов, он уезжал на несколько дней в Копенгаген, будто бы для осмотра древностей, а я ездил с ним под предлогом, что нельзя старика оставлять одного. Я разыскал там у одного любителя собрание гравюр, где среди всякого хлама были отличные вещи. Здесь я приобрел перл своей коллекции, великолепный оттиск «Поэта Виргилия в корзине» Луки Лейденского, что вознаградило меня за всю испытанную скуку.
Приезд принца Вельского[59] с семейством и свитой внес более внешнего оживления, но нисколько не более занимательности в патриархальную атмосферу копенгагенского двора. Я увидел здесь, какие глупые игры могут веселить англичан. Есть игра, которая вся состоит в том, что сосед говорит соседу: «Хотите купить мою утку?» (Will you buy my duck), и эта фраза идет кругом. Другая игра заключается в том, что один говорит: «Тот может мало сделать, кто не может сделать это, это, это» (He can do little, who cannot do this, this, this), и при этом три раза известным способом постукивает чем-нибудь по столу. Каждый по очереди должен это повторить, и так идет кругом, после чего первый говорит туже фразу, но уже постукивая иным способом, и опять все должны повторить те же слова и жесты. Это называется игрою. Когда же хотят веселиться безумно, то садятся вокруг стола, посреди которого кладут большой кусок ваты. Все начинают дуть на эту вату, стараясь направить ее на соседа, который должен отдуваться. Если он не успеет этого сделать, и вата на него упадет, то возбуждается всеобщий хохот. Веселее этого уж ничего нельзя придумать.
Среди этих забав и развлечений, которые для молодежи могли иметь свою прелесть, наступила минута отъезда. Прощание было самое сердечное и трогательное. Мы прямо проехали в Дармштадт, где царская семья с радостным чувством встретила молодого жениха. Теперь нам предстояло отдохнуть от всех этих волнений среди возвышенных впечатлений Италии. Но предварительно надобно было сделать еще несколько официальных визитов к родственным германским дворам. От этого граф Строганов меня избавил. Он советовал мне поехать в Кассель посмотреть картинную галерею и затем присоединиться к ним в Мюнхене. Баварский король находился в загородном дворце, куда наследник поехал один с Рихтером. По его возвращении, мы через Тироль проехали в Венецию. Здесь нас встретило полное очарование. Погода была дивная, и Венеция сияла в полном блеске. Мы были опять одни, в своем дружеском кружке, и могли, не стесненные ничем, с легким сердцем наслаждаться окружающим нас великолепием. Днем мы с увлечением осматривали дворцы, церкви и галереи; а вечером, на следующий день после нашего приезда, при открытых окнах, наследнику дана была серенада, представлявшая совершенно волшебное зрелище. Десятки гондол, украшенных разноцветными фонарями, собрались на Большом канале перед нашею гостиницею, и мелодические голоса итальянских хоров распевали нарочно сочиненную для этого случая песню. У меня осталась в памяти последняя строфа, грустно напоминающая то время:
Delia Neva sulle spondeFra i pompi ed i tetori,La conzone dei pittoriForte in mente ti verraE ricordo di VeneziaEssa mai per te sara[60].Бедному юноше не суждено было, среди пышности и блеска, вспоминать очаровательную Венецию на берегах Невы. Здесь в первый раз появились признаки той болезни, которая должна была свести его в могилу. Он почувствовал сильную усталость и в последние дни уже с видимо ослабевшим интересом осматривал картины. Мы приписывали это всем предшествующим волнениям и не придавали этому особенного значения, тем более, что доктор был совершенно спокоен.
Из Венеции мы отправились в Турин, остановившись на день в Милане, где в то время находился принц Гумберт. Граф Строганов не преминул воспользоваться остановкой, чтобы съездить в Павию, посмотреть прелестную Чертозу[61], которую мне довелось видеть в первый раз. В Турине Виктор-Эммануил задал нам большой обед, на котором присутствовали значительнейшие политические деятели Пьемонта. Это было, конечно, гораздо интереснее, нежели придворные церемонии. Меня посадили возле министра народного просвещения, с которым я вел приятную беседу. Короля мы нашли в мрачном настроении духа. Это была та минута, когда решено было перенести столицу из Турина во Флоренцию. Коренные пьемонтцы были от этого в негодовании. Председатель Сената, почтенный и ученый граф Склопис, которого я знавал еще во время первого моего путешествия, вышел в отставку. В спокойном Турине произошло нечто вроде народного возмущения; сам король подвергся неприязненным демонстрациям. Это глубоко его оскорбило, ибо он свой Пьемонт любил больше всего, и если решился на такую жертву, то единственно в виду блага Италии. После обеда он к нам подошел и долго, в общих выражениях, распространялся о неблагодарности людей, говоря, что он находит утешение только в охоте, где он может удалиться в горы, подальше от человеческого общения. Я с сочувствием смотрел на эту странную фигуру, невысокую, толстую и безобразную, с глазами на выкат, с громадными усами и эспаньолкой, имевшую вид какого то зверя, но с умным и энергическим выражением.
Из Турина мы проехали в Геную, где осматривали великолепные дворцы; затем, вместо того, чтобы прямо ехать во Флоренцию, мы завернули на несколько дней в Ниццу, куда прибыла на зиму императрица. Оттуда уж, на русском военном корабле, мы переправились в Ливорно и в тот же вечер прибыли во Флоренцию.
В самый день приезда я почувствовал себя нехорошо. Данное мне потогонное не подействовало, и на другое утро мне было еще хуже. В следующие дни болезнь шла, все возрастая. Я слег в постель. Открылся сильнейший тиф, который осложнился опасною местною, так называемою просяною горячкою (fievre miliaire), с сыпью и судорогами. Больше месяца я пролежал в этом положении. И доктора и мои спутники считали меня безнадежным. Тело мое превратилось в щепку; у меня сделались мучительные пролежни. Меня переворачивали с боку на бок, ибо сам я поворачиваться был не в состоянии. Мне постоянно клали лед на голову и каждый час давали бульон для поддержания упадающих сил. За все это время я ни единой минуты не смыкал глаз, а, между тем, оставался в сознании, хотя временами довольно смутном. Была даже критическая минута, в которой я метался в бреду; об этом мне рассказывали после. Особенно мучительны были долгие ночи, когда все спало кругом, и не слышно было ни малейшего шороха. Час за часом считал я бой часов на колокольне по ту сторону Арно, пока, наконец, в семь часов утра я с каким-то облегченным чувством приветствовал стук молотков на мостовой, которая была повреждена недавним наводнением и чинилась перед нашей гостиницей. Я сам был уверен, что я умираю; не раз мне казалось даже, что жизнь так и утекает из меня каким-то тихим журчащим ручьем. Я подзывал приставленную ко мне сиделку, добрую старуху Терезу, и просил ее посидеть возле меня в мои последние минуты. Эти минуты не были для меня страшны. Смерти я не боялся; во мне не было того инстинктивного чувства, которое побуждает человека хвататься за жизнь, как за последнее убежище бренного его существования. В загробную жизнь я в то время не верил, но и прошедшая моя земная жизнь не научила меня ею дорожить. Я прощался с нею, как некогда прощался с молодостью, с грустным чувством чего-то неисполненного, каких-то неудовлетворенных стремлений, несбывшихся надежд и не успевших выказаться сил. В эти долгие ночи, когда я был как бы оторван от всего земного и погружен исключительно в себя, все мое прошлое восставало передо мною, в смутных, но вместе существенно ясных чертах. Подробности исчезали, но все заветное, все затаенное в глубине души, все, что составляет временно затмевающуюся, но в сущности, вечную и незыблемую основу человеческого существования, всплыло наружу с неудержимою силою. Одно непоколебимое отныне чувство овладело мною: сознание невозможности для бренного человека отрешиться от живого источника всякой жизни, от того, что дает ему и смысл, и бытие. Мне показалось непонятным, каким образом я мог в течение пятнадцати лет оставаться без всякой религии, и я обратился к ней с тем большим убеждением, что все предшествующее развитие моей мысли готовило меня к этому повороту.
Я сказал уже, что под влиянием гегелизма и построенной на нем собственной философии истории, я верил в будущую религию духа, ведущего человека к конечному совершенству; все же существующие и существовавшие религиозные формы я считал преходящими моментами человеческого сознания, не достигшего полноты. Мои исторические исследования убедили меня, что мы в настоящее время стоим на перепутье между двумя религиозными эпохами: между христианством, которое я считал религиею прошлого, и поклонением духу, в котором я видел религию будущего, еще не раскрывшуюся человеку. На этом я и успокаивался, уверяя себя, что в такие переходные эпохи человеку мыслящему волею или неволею приходится оставаться без религии. Однако, более зрелое размышление убедило меня, что то, что я считал преходящими моментами сознания, в действительности выражает собою вечные, неустранимые начала мирового бытия. Если дух составляет конечную форму абсолютного, то есть и форма начальная, – никогда не оскудевающая всемогущая сила, источник всего сущего; есть и форма посредствующая, бесконечный разум, дающий всему закон. Христианство есть религия верховного разума, слова божьего, открывающегося в нравственном мире и полагающего нравственный закон человеку. Будучи совершенным в своей области, оно может только восполниться, а не замениться другою религиею, также как оно само только восполнило, а не устранило ветхозаветную религию бога силы. Это убеждение созревало во мне мало-помалу, и я говорил себе, что на старости лет я обращусь к этим вопросам и постараюсь дать им посильное решение. Болезнь ускорила этот процесс. Я живо почувствовал, что каково бы ни было умственное состояние современного человечества, отдельный человек не может, не отказавшись от себя, от глубочайших основ своего духовного естества, от всего, что в нем есть самого высокого и святого, оторваться от абсолютного начала всякого бытия, сознание которого запечатлено в нем неизгладимыми чертами. Я понял, что всякая религия служит живою связью между человеком и божеством, а потому человек не может и не должен от нее отрекаться, хотя бы она была несовершенна и не вполне отвечала его убеждениям. Это чувство возбудилось во мне с тем большею силою, что я вместе с тем живо сознавал, что сам человек, своею личною волею, не в состоянии себя обновить. Нужна высшая духовная власть, которая, проникая в тайны человеческого сердца, сказала бы ему: «прощаются тебе грехи твои», и благословила бы его на новый путь. И во мне возгорелось страстное желание приобщиться вновь к христианству. Как только мне стало несколько лучше, я попросил к себе находившегося на фрегате священника, который навещал меня во время болезни, и после многолетнего перерыва исповедовался и причастился.
В то же время во мне родилось и другое убеждение. В эти долгие, мучительные ночи, когда перед моим умственным взором проходила вся моя прошлая жизнь: мое счастливое детство, обуреваемая страстями молодость, – я живо почувствовал, что для человека нет и не может быть счастья вне семейной среды. До тех пор я об этом не думал; но теперь вся пустота одинокого существования представилась мне с такою же поразительною ясностью, как и горькая доля человека, отрешившегося от бога. Я понял, что для нормального человеческого существования необходимо основание собственного семейного очага.
Этим мечтам суждено было сбыться. Крепкая природа взяла свое, и я, неожиданно для всех, воскрес. Пробуждение к жизни имело ни с чем несравнимую прелесть. Физические страдания исчезли; в душе водворилось какое-то ясное, безмятежное, почти райское состояние. Всякая мелочь казалась мне полною чарующей поэзии. Когда в первый раз мне отдернули занавески и показали свет, я не мог оторвать своих глаз от пошлых обоев комнаты, где я лежал. На них изображались китайские беседки, окруженные гирляндами из роз с зелеными листиками. Эти цвета казались такими привлекательными, что я не мог ими налюбоваться. Когда затем открыли окно, окутав меня с головы до ног фланелью, и в комнату внезапно ворвался весь городской шум, голоса людей, стук экипажей, плеск бегущего под окнами Арно, мне казалось, что я нахожусь в каком-то волшебном мире, где раздаются райские звуки. В окно как будто влетало все обаяние бытия, мечты, надежды, радости и волнения, уносившие меня в бесконечную даль. Самые детские яства, тюря из белого хлеба с теплым молоком, напоминавшая мне детские годы, парное ослиное молоко, которым поили меня ежедневно в семь часов утра, были для меня источником неизъяснимого наслаждения. Просыпаясь после тихого и глубокого сна, я с сладкими мечтами ждал свою ослицу и, выпивая стакан пенистого молока, говорил, что это наверное был тот нектар, который боги пили на Олимпе. Но еще более, нежели вещи, радовали меня люди. Каждый человек, который приходил меня навестить, представлялся мне ангелом, посланным с небес; я любил его всем сердцем и приветствовал его, как давно желанного друга. При известии о моей болезни приехал из Парижа брат Василий. Это было для меня величайшее счастье; но я был еще так слаб, что мне позволили видеть его только на минуту. Он долго не мог тут пробыть, а потому из Петербурга выписали брата Андрея, который и остался при мне до полного выздоровления. Когда я стал поправляться, мне сообщили, что мои спутники уезжают и, вследствие нездоровья наследника, не в Рим, как предполагалось, а обратно в Ниццу. После я узнал, что во время моей болезни с великим князем сделался жесточайший припадок: вдруг появилась такая сильная боль в пояснице, что он должен был слечь в постель. Все переполошились; созвали консилиум. Один итальянский доктор сказал, что у него нарыв в спинной кости. Впоследствии оказалось, что это был единственный верный диагноз. Скоро, однако, ему сделалось лучше, и медики пришли в сомнение. Но двигался он все-таки с трудом и ходил сгорбленный. При таких условиях везти его в Рим было бесполезно. С другой стороны, доктора советовали уехать из Флоренции, опасаясь неблагоприятного климата. Решили возвратиться в Ниццу к императрице, которая очень беспокоилась о сыне. Но наследник не хотел уезжать, оставив меня между жизнью и смертью. Только когда моя болезнь приняла благоприятный оборот, он решился отправиться в путь. Из Ниццы мне писали, что вызваны были знаменитейшие французские медики Рейе и Нелатон, которые не нашли ничего опасного. Они определили болезнь, как застарелую простуду, и предписали оставаться пока в Ницце, а на весну ехать в Баньер или Люшон, около По, для лечения ваннами. Эти известия меня успокоили.
Мое выздоровление шло медленно, но правильно. Все представлялось мне в радужном цвете. Воспрянув к новой жизни, я мечтал о возвращении домой, о разных работах, которые я хотел предпринять. Большим развлечением в моем затворничестве были собранные мною во время путешествия гравюры. Я часто рассматривал их со стариком Липгартом, который навещал меня почти ежедневно. Это был поселившийся во Флоренции немец из Остзейского края, высокий, сухощавый, необыкновенно живой, образованный, страстный любитель и знаток художества, на которое он потратил значительную часть своего состояния. У него также было отличное собрание гравюр, впоследствии пущенных в продажу. Было и собрание рисунков, которые он приносил мне показывать, что для меня было истинным наслаждением. Он все жалел о том, что в моем положении нельзя было со мною обегать все уголки Флоренции, которую он знал, как свои пять пальцев. У него можно было многому научиться, хотя у него были свои коньки. Подобно многим записным знатокам, он пренебрегал тем, что было всем известно, и склонён был давать преувеличенное значение тому, что он сам отыскивал. Его оригинальность выражалась иногда в забавных выходках. Десять лет спустя, когда я, женатый, приехал опять во Флоренцию, он с первого слова объявил мне, что он покончил с Перуджино и Франчиа. «Они скучны; у них все одно и тоже», – сказал он и тут же в лицах, с разными ужимками, начал представлять, как держит себя богоматерь Перуджино на известной фреске Распятия. Я познакомил его с женою. Он тотчас спросил ее, что она видела во Флоренции. Она отвечала, что пока мы успели побывать только в Уффици и Питти. «Я желал бы, чтобы эти галереи сгорели дотла!» – воскликнул он с негодованием. Жена с удивлением спросила его, отчего он так их не жалует. «Оттого, что они отвлекают внимание от фресок, которые несравненно важнее», – отвечал Липгарт.
Почти ежедневно по вечерам навещал меня и Юрий Федорович Самарин, который на обратном пути из Рима остановился на несколько дней во Флоренции. После освобождения крестьян он три года был членом Губернского присутствия в Самаре. Совершив свое дело, он вышел в отставку и поехал отдохнуть за границу. С ним мы беседовали больше о русских делах. В это время приходили из Москвы известия о бывшем там дворянском собрании. Газеты приносили речи Голохвастова, Безобразова, Орлова-Давыдова. Мы с Самариным сходились вполне в оценке тогдашнего напускного дворянского либерализма. Его тянуло туда, и ему, видимо, было досадно, что он не участвует в этих прениях. Впрочем, он был в отличном расположении духа и необыкновенно забавно передразнивал разных членов редакционных комиссий. Особенно памятна мне воображаемая речь, произнесенная при возвращении в Полтаву В. В. Тарновским. Все ужимки и акценты этого типического представителя Малороссии передавались с неподражаемым мастерством.
Как скоро я в состоянии был выехать, доктор – немец, пользовавший меня в течение всей болезни, советовал мне уехать из Флоренции, говоря, что я скорее поправлюсь с переменою климата. Но путешествие в Ниццу было еще слишком утомительно. Мы с братом Андреем решили поехать на несколько дней в Рим. Там мы нашли семейство Алексея Васильевича Капниста, богатого малороссийского помещика, сыновья которого воспитывались в Московском университете и были товарищами моих младших братьев. Андрей был очень дружен со всею семьей, и я был знаком с ними еще в Москве, в конце пятидесятых годов, перед первою поездкою за границу. Но я не знал старшей дочери, в то время 19-летней девушки, которая славилась красотою. Молва была не напрасна. Я увидел прелестный ангельский лик, напоминавший мадонны Беато Анджелико. Это был первый женский образ, который представился после моей болезни, образ полный грации и поэзии. Провидение как будто указывало мне ту, которая должна была осуществить мои мечты. Но в то время я еще не подозревал, что несколько лет спустя, она сделается моею женою.
В Риме я быстро поправился и мог уже ехать к своим спутникам. Брат сопровождал меня до Ниццы и оттуда отправился обратно в Россию. Я был очень тронут его приездом и его заботами.
В Ниццу я приехал, как в свою семью. Все меня встретили с искренней радостью, как воскресшего из мертвых. Но мое впечатление было невеселое. Я нашел наследника исхудалым, осунувшимся, сгорбленным. Болей он не чувствовал, но он не мог разгибать спины, а потому лишен был возможности гулять пешком и ездить в общество. В ожидании будущих ванн в Люшоне, его лечили электричеством, но оно приносило мало пользы. Для молодого человека, и притом жениха, положение было незавидное. Он сделался задумчив, порой даже раздражителен. Прежняя беззаботная веселость, радужные мечты исчезли. На масленице ему наняли комнату на главной улице, и он как будто встрепенулся: бросал букеты, даже бегал по лестницам. Но это была только вспышка. Однако опасности никто не предвидел. Успокоенью французскими знаменитостями, мы все считали его болезнь упорно засевшим ревматизмом. Один граф Строганов беспокоился. Ему казалось неестественным, чтобы молодой организм не мог осилить ревматического состояния. Слабость и худоба внушали ему сомнения. Он поехал в Париж, чтобы повидаться с братом, но, в сущности, чтобы поговорить с докторами. Вернувшись, он рассказывал свой разговор с Рейе, который его успокоил. Он прямо поставил последнему вопрос: считает ли он возможным для великого князя жениться. «Я не вижу никакого препятствия», отвечал Рейе. «Но подумайте, что это наследник русского престола; от его здоровья зависит судьба его потомства, а вместе и судьба России». «Если вы так на это смотрите, – отвечал Рейе, – то отложите свадьбу на три месяца. Другого я ничего не могу посоветовать». Граф Строганов несколько успокоился, но продолжал зорко следить за вверенною его попечению молодою жизнью. Когда его впоследствии обвиняли в том, что он ничего не видел и даже побуждал наследника делать чрезмерные усилия в видах спартанского воспитания, то это опять одна из тех клевет, которые так легко возникают в придворных сферах и оттуда обильными потоками распространяются по великосветским гостиным.









