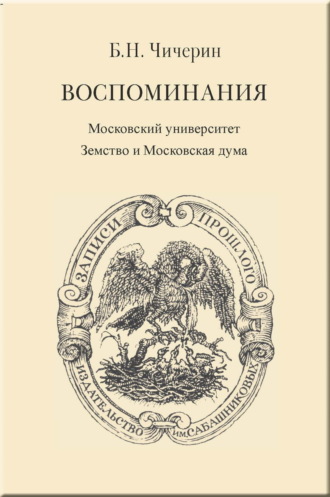
Полная версия
Воспоминания. Том 2. Московский университет. Земство и Московская дума

Борис Чичерин
Воспоминания. Том 2. Московский университет. Земство и Московская дума
Издательство выражает благодарность Российской государственной библиотеке за помощь в подготовке настоящего издания

Под редакцией Л. Заковоротной
Предисловие, примечания С. Бахрушин
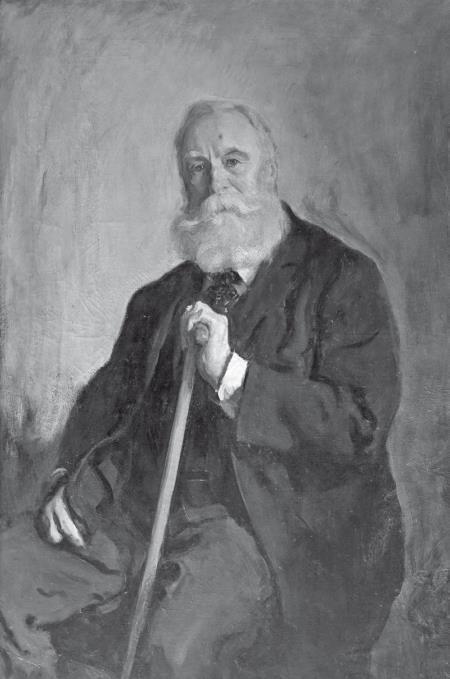
Б.Н. Чичерин
© Издательство им. Сабашниковых, 2022
Московский университет
Вступление на кафедру
Вернувшись в деревню после заграничного путешествия, я нашел в ней совершенно новую жизнь. «Положение 19 февраля»[1] вступило в силу и прилагалось разумно и честно. Брат Владимир был мировым посредником, постоянно разъезжал, составлял и вводил уставные грамоты, и все шло как нельзя лучше. Раз в месяц посредники собирались на съезд. Предводителем дворянства в Кирсановском уезде был в то время Михаил Степанович Андреевский, человек вполне порядочный и преданный общественному делу. В числе посредников был Баратынский, сын Сергея Абрамовича, доктор, как и его отец, человек самых высоких нравственных свойств. Брат, разумеется, всегда был с ним заодно. Остальные подчинялись общему духу и действовали в данном направлении. Помещики, даже не сочувствовавшие реформе, по русскому обычаю покорялись своей участи и не оказывали противодействия. Только со стороны крестьян кое-где обнаруживалось упорство, иногда даже в противность собственным их выгодам; но так или иначе все улаживалось. И у нас в Карауле произошло маленькое замешательство. При разверстании надо было перенести один поселок на другое место. Крестьяне не хотели согласиться; все попытки властей уговорить их были напрасны. Решили, наконец, привести роту солдат. Тогда сестра, в то время еще 22-летняя девушка, однажды утром пошла на село, собрала мужиков и стала их увещевать, представляя им, что после столь долгих и отличных отношений к помещикам, было бы стыдно, если бы в Караул привели солдат для усмирения непокорных. Кончилось тем, что она всех их привела с собою, и они изъявили согласие на переселение.
Все, что я видел и слышал, исполняло меня самыми отрадными чувствами. Провинция во всех своих слоях, на верхних и нижних, спокойно и трезво исполняла великое дело, соблюдая обоюдные выгоды и руководствуясь идеею самой чистой справедливости. Это был залог светлого будущего.
Такой благоприятный ход преобразования, изменявшего весь строй русской жизни, конечно, делал честь дворянству, на плечах которого лежало все исполнение; но он свидетельствовал, вместе с тем, о прочности фундамента, на котором строилось новое здание.
Изучая «Положение 19 февраля», я исполнился благоговением к этому созданию созревшей русской мысли. Я видел в нем лучший памятник русского законодательства. Это не было просто сведение к единству накопившихся с течением времени и вызванных практикой положений. Тут все приходилось создавать вновь, вводить чуждые жизни начала, установлять неведомые практике отношения. И эти отношения охватывали самые коренные интересы важнейших элементов русской земли, первенствующего сословия и народной массы. Надобно было развязать веками затянувшийся узел, заменить свободою установившееся не только в силу закона, но, главным образом, вследствие жизненных условий, полновластие. Задача была самая сложная, трудная и обширная, какая могла представиться законодателю; а, между тем, она была решена с таким ясным разумением цели и средств, с таким твердым сознанием как теории, так и практики, в таком цельном и последовательном направлении, что нельзя было не питать глубокого уважения и к новому закону, и к его составителям. Все, кому приходилось прилагать на деле этот великий законодательный памятник, разделяли это убеждение. Станкевич, который был назначен от правительства членом губернского присутствия в Воронеже, говорил, что он благоговеет перед «Положением 19 февраля». Ни легкомысленные руки, которым вверено было верховное исполнение, ни бесчисленные, друг другу противоречащие циркуляры нового министра внутренних дел, не могли поколебать крепкого его строя. Единственный существенный недостаток заключался в правилах о даровом наделе, введенных реакционерами Государственного совета. Это была печальная уступка притязаниям аристократии, окружавшей престол.
Против «Положения 19 февраля» предъявлялись возражения с разных сторон. Закоснелые помещики утверждали, что крестьянам дано слишком много; демократы, особенно в позднейшее время, уверяли, что крестьянам дано слишком мало. В действительности соблюдена была строгая справедливость. При разрешении вековых уз, крестьяне приобрели в среднем выводе то, чем они пользовались в то время, как их застигла реформа, а помещики за отходящие от них выгоды получили надлежащее вознаграждение. Конечно, невозможно было во всяком конкретном случае сохранить полную соразмерность. При бесконечном разнообразии условий русской земли, единственное, к чему можно было стремиться, это – соблюдение справедливой средней пропорции, что и было сделано. Землевладельцы черноземной полосы в сущности в данную минуту не потеряли ничего; они в большинстве местностей получили ту плату за земли, которая в то время существовала, и очень хорошо могли устроить свое хозяйство при вольном найме; крестьяне же, если в некоторых местах лишались земельного избытка, которым они пользовались у щедрых помещиков, зато получили всю выгоду от последовавшего затем возвышения ценности земель. В нечерноземной полосе помещичье хозяйство значительно более затруднилось; многие принуждены были даже совсем его прекратить. Но они в виде оброка получили за свои земли гораздо более того, что они стоили; сюда вошла и плата за отходящий труд. Если при новых условиях часть помещиков разорилась, то виновато в этом не «Положение 19 февраля», а неподготовленность значительной доли русского дворянства к правильной экономической деятельности вместе с неумением держать свои расходы в должных пределах. Многие дворянские имения перешли в руки капиталистов, но это во всяком случае было неизбежно и не может считаться злом: таково естественное последствие подвижности поземельной собственности. Только чисто искусственным путем можно было удерживать земли в руках лиц, обремененных долгами, и помешать покупке их теми, у кого были деньги в руках. С другой стороны, и среди крестьян с течением времени обнаружилось ухудшение состояния. На первых порах благосостояние их поднялось, однако, ненадолго. Народонаселение увеличивалось, а земля оставалась все та же, и привычки к сбережениям не было; отсюда всеобщее обеднение. К этому присоединялись и другие неблагоприятные условия: сохранение общинного владения, налагающего путы на первый и коренной источник всякого экономического благосостояния – личную самодеятельность; железные дороги, которые, поднимая цены на землю и произведения, рядом с этим уничтожали значительные прибытки от зимнего извоза; семейные разделы, которые отныне могли совершаться беспрепятственно; наконец, развившееся безмерное пьянство вследствие свободной продажи удешевленного вина. Сельский быт, несомненно, требовал дальнейшего устроения. «Положение 19 февраля» положило этому только начало. Оно занялось главным делом – уничтожением крепостного права и заменою его новыми отношениями, основанными на свободе; все же остальное оно предоставило дальнейшему движению законодательства, по указаниям жизни. Оно установило даже 9-летний срок для пересмотра многих узаконений. Но когда этот срок истек, законодательная деятельность уже остановилась. Все работники, приложившие руки к «Положению 19 февраля», сошли со сцены. Место их заступила реакция, опирающаяся на бюрократическую рутину. В это время в петербургских высших сферах не оставалось уже ни одного человека способного начертать путный закон. Все было предоставлено на произвол судьбы, а то, что делалось, было ниже всякой критики. Русское правительство как будто истощилось в громадном усилии и затем погрязло в полном бездействии.
В конце августа я уехал в Москву с самыми отрадными впечатлениями, полный светлых надежд. Но, боже мой, что нашел я в столице! Между тем, как страна спокойно и обдуманно совершала свое великое дело; между тем, как и помещики и крестьяне с сознанием своего долга работали усердно и неутомимо, – русская интеллигенция предавалась тому неистовому беснованию, которое так возмущало меня в Герцене, и которое легкомысленно поддерживали петербургские его поклонники и приятели. Университеты были в полнейшем брожении; в литературе и в обществе господствовал невообразимый умственный хаос. Из Петербурга приходили известия, что там издаются подпольные газеты, печатаются прокламации, взывающие к истреблению всего высшего сословия в государстве. Зрелище было надрывающее сердце, но вместе и весьма поучительное.
Расстройство Московского университета началось давно. Еще в 1857 году случилась история, которая разом изменила дотоль мирное настроение студентов. Где-то в непотребном месте произошла драка между студентами и полициею. Студентов сильно поколотили. Полиция в этом деле вела себя нагло и неприлично. Как скоро весть об этом происшествии разнеслась между учащеюся молодежью, весь университет разом преобразился. Студенты вступились за своих товарищей, волнение было громадное; начались шумные сборища; обращались к начальству с просьбою о заступничестве. Это была искра, которая зажгла давно уже накопившиеся горючие материалы. Начальство, действительно, заступилось, и виновные полицейские были наказаны. Это внушило молодежи сознание своей силы. Начались походы против негодных профессоров, которых в печальную пору принижения университетов набралось не мало.
В это время между студентами был кружок так называемых консерваторов, к которому принадлежали мои младшие братья, и кружок социалистов; между теми и другими происходили иногда препирательства. Но инициативу движения приняли первые. На кафедру славянских наречий недавно был назначен совершенно бездарный Майков. Студенты словесного факультета решили, что надобно от него отделаться. На одной из его лекций первый встал, сделавшийся потом профессором истории, Герье и вышел вон; за ним последовала вся аудитория. Студенты объявили, что они к Майкову ходить больше не будут, потому что слушать его невозможно. Деканом был тогда Соловьев. Он уговорил их ходить, и сам пошел на несколько лекций. Он убедился, что курс действительно был невозможный. Об этом было представлено начальству, и Майков лишился кафедры. Разумеется, такой подвиг не остался без подражания. На других факультетах были еще более негодные профессора. У юристов Орнатский был общим посмешищем. Студенты и к нему перестали ходить. Он тоже принужден был покинуть университет. Математики не хотели отставать от других и тем же способом заставили выйти Варнека. Таким образом студенты стали хозяевами университета. Они делали, что хотели, завели у себя столовые и кассы. По всякому поводу собирались сходки, на которые иногда вызывались ректор и деканы, и те ходили, объяснялись, старались успокоить молодежь. Всякая власть исчезла. Попечители Ковалевский и после него Бахметев были люди мягкие и добрые, но совершенно чуждые университету, не имевшие понятия о том, как следует обращаться с молодежью: они старались только ей угодить. Разумеется, об исправном посещении лекций совершенно перестали думать. Вместо того, по рукам ходили беспрепятственно в оригинале и в литографированных переводах сочинения Фейербаха, Бюхнера, Молешотта и всякие социалистические издания. Кружок консерваторов исчез, а социалистические учения, напротив, приобретали все большую силу. Они выдавались за последнее слово науки.
Если таковы были порядки в Московском университете, то в Петербургском, подверженном непосредственному влиянию Чернышевского с компаниею, дело обстояло еще несравненно хуже. Те же явления повторялись и в провинции. Наконец, правительство испугалось и решилось положить конец безурядице. Вместо слабого Ковалевского, министром народного просвещения назначен был граф Путятин, адмирал, вовсе незнакомый с университетами, человек честный, но ограниченный, крутой и упорный. Вместе с тем, приняты были меры, которые должны были разом пресечь зло в самом его корне. Всякие сходки, депутации, прошения и адресы были строго воспрещены. Для преграждения посторонним лицам доступа в университет, студентам выданы были матрикулы, которые они должны были каждый раз предъявлять при входе. Ежедневно записывались имена приходящих. Наконец, чтобы остановить наплыв в университет демократических элементов, отменено было освобождение бедных от платы за слушание лекций.
Нельзя было придумать ничего более неловкого. Это значило прямо возбуждать студентов такими мерами, которые должны были привлечь к ним сочувствие общества. Как только открылся осенний семестр, начались сборища с целью поднести адрес об отмене новых порядков. Сперва волнения начались в Петербургском университете, а затем перешли и в Московский. Когда я приехал в Москву, я застал уже все в полном брожении. Новый попечитель, назначенный на место умершего Бахметева, Николай Васильевич Исаков, был в отпуску. Округом правил его помощник Василий Андреевич Дашков, совершенный младенец, неспособный ни к какому решению или действию. Все бремя пало на университетское правление. И ректор и деканы старались уговаривать студентов, убеждали их не нарушать закона недозволенными сходками. Все было напрасно. Тогда правление решило закрыть два первые курса юридического факультета, которые волновались более всех. Однако и эта мера не подействовала. Студенты тем более могли надеяться на безнаказанность, что они находили поддержку не только в обществе, но и в городских властях. Профессора в этом случае вели себя безупречно. И старые, и молодые единодушно стояли за водворение порядка. Молодые профессора в это время собирались в субботу вечером поочередно друг у друга. Никто из нас не одобрял новых мер, но все мы – от первого до последнего – были убеждены, что для восстановления правильной университетской жизни необходимо прекращение смут. В этом профессора старались убедить студентов, и старшие курсы в значительной степени склонялись на их увещания. Но с младшими, наиболее многочисленными, не было никакого ладу. При многолюдности сходок, университетская инспекция была совершенно бессильна: оставалось прибегнуть к помощи полиции, а на это робкий В. А. Дашков тем менее мог решиться, что генерал-губернатор отнюдь не был склонен к такого рода мерам. В то время Москвою правил Павел Алексеевич Тучков, человек в высшей степени почтенный и благородный, но мягкий и даже слабый. Как у всех русских властей, первая его забота состояла в том, чтобы как-нибудь все уладить втихомолку и не дать разыграться скандалу. В этих видах, когда правление, исчерпав все средства, которыми оно могло располагать, обратилось к нему с просьбою о полицейской помощи, он не только в этом отказал, считая употребление полиции мерою слишком крутою, но частным образом разрешил запрещенные законом сходки. Тучков сам даже втайне принимал студентов и поправлял составленный ими, вопреки новым правилам, адрес. Я слышал это своими ушами от В. А. Дашкова у которого я был в начале волнений и который действовал совершенно под влиянием генерал-губернатора. Через это положение в крайности обострялось. С одной стороны, корпорация профессоров, не одобряя правительственных мер, твердо стояла за сохранение порядка; с другой стороны, правительственные власти мирволили нарушению закона. На что же можно было опереться?
В это время брат Василий, который из Турина был переведен в Петербург советником Министерства иностранных дел, просил меня уведомить его о том, что делается в Москве, а сам описывал то, что происходило в Петербурге. Он был хорошо осведомлен, и я привожу здесь нашу переписку, как любопытный памятник тогдашнего времени.
«Студенческие дела, – писал брат, – приняли довольно серьезный оборот. Лекции уже начались было, и в прошлый понедельник, 25 сентября, хотели раздавать матрикулы. Студенты объявили, что их не примут. Они, кроме того, в подражание привезенной из Лондона прокламации, стали сочинять свои, еще безумнее, с эпиграфом Рылеева, с требованием распространения мирских выборов на все управление и с провозглашением крайних коммунистических теорий. Под видом помощи бедным студентам, которые не в состоянии платить 50 рублей, они составили общую кассу, но деньги употребляли на запрещенные книги, перепечатывали прокламации и т. д. Кассу у них отняли, т. е. взяли в университетское правление, чтобы контролировать издержки. Наконец, на стенах университета появилась прокламация, и студенты выломали дверь в один зал, в котором хотели иметь сходку. Решено было временно закрыть университет, и объявление об этом студенты нашли на дверях в понедельник. Под объявлением один из них написал: «А в 11 часов сходка на дворе!» Собралось их, говорят, до 1500, и тут же решено массой идти к попечителю за объяснениями. Он живет на Владимирской, и процессия с Васильевского острова прошла через весь Невский. На Владимирской стоял батальон солдат, и были собраны жандармы верхом. Филипсона не было дома. Шувалов (обер-полицеймейстер) стал говорить студентам, что с толпою рассуждать нельзя, что надобно прислать депутатов. «А ручаетесь ли вы, что им ничего не сделают?» «Нет, не могу». «Ну, так мы не можем прислать их, мы хотим все равно ответствовать».
Филипсон подъехал и объявил, что выслушает их в университете. Процессия потянулась назад. Один из очевидцев рассказал мне, что жандармы выхватили сабли и поехали шагом на толпу, которая побежала: в какую минуту, этого я не мог разузнать. Филипсон потерял голову; он пошел пешком вместе со студентами и перед тем спросил, идти ли ему в шинели. В толпе закричали: «без шинели», и он повиновался. Потом он взял извозчика, а студенты закричали: «смотри, улизнет». Толпа остановилась на университетском дворе, а трое студентов пошли объясняться. Попечитель сказал, что университет закрыт только до 2 октября для внутренних переделок. Ему стали возражать против матрикул, и он обещал хлопотать. Вообще его критикуют: 1) потому что он должен был быть в университете, узнавши в 9 часов, что будет сходка, 2) что пошел пешком и позволил процессии вторично пройтись по Невскому, 3) что его объяснения имели вид извинений.
Во вторник студенты ходили по улицам и приглашали гуляющих на сходку на следующий день в 10 часов. Опять у университета были поставлены солдаты. Генерал-губернатор приехал и увидал офицеров между студентами. Он приказал их арестовать, но студенты расступились и их скрыли, а над Игнатьевым стали подшучивать. И эта сходка разошлась без результата, но на следующий день явилось объявление, что всякие сборища студентов запрещены и университет закрыт впредь до приказания.
В отсутствие государя (он был в Крыму), для экстраординарных случаев назначена им комиссия: Михаил Николаевич, Путятин, Валуев и Шувалов. Великий князь призвал в понедельник еще Горчакова, Строганова и Муравьева. Решено напечатать новое Положение об университете и объявить, что те, которые не примут матрикул, не считаются студентами. Но для этого нужно быть уверенным в профессорах. Их созвали и спросили мнения: 14 одобрили все распоряжения, 15 заступились за студентов. Тогда им сказали, чтобы они письменно изложили свои замечания. Кавелин написал записку, и четыре профессора ее подписали. Между прочим, в ней сказано, что сходки должны быть дозволены, потому что молодые люди привыкают говорить в публике и, таким образом, готовятся к свободным учреждениям. Чтобы объяснить такие невероятные требования, некоторые говорят, что умственные способности Кавелина со времени потери сына не совсем в порядке. Подписали записку: Утин, Спасович, Стасюлевич. Печальнее всего, что из остальных профессоров осталось только трое на стороне университетского начальства. Между тем, публикованные вчера новые правила решительно не подают повода к открытому неповиновению; в них даже есть хорошие распоряжения, как, например, уничтожение карцера и учреждение суда над студентами из профессоров. Совет, над которым председательствует Михаил Николаевич, призвал Ковалевского и просил указать, что есть дурного в университетских правилах. Ковалевский, как ни хотелось ему покритиковать, ограничился замечанием, что они писаны канцелярским слогом и что есть выражения слишком резкие, например, вместо исключаются следовало сказать увольняются.
Университет закрыт, а студенты продолжают волноваться. Они объявили, что завтра будет демонстрация в Казанском соборе, и сегодня весь город только об этом и говорит. Вся эта история была бы ребячеством, если бы власти умели действовать разумно и с энергиею. Но чего ожидать от Игнатьева и К°?
Еще одно обстоятельство дает ей серьезный характер: волнения между студентами в связи с прокламациями, и студенты только ищут, к чему привязаться, чтобы выразить les opinions de jour[2]. В процессии и на сходках видели офицеров и, когда генерал-губернатор хотел их арестовать, они скрылись, что до сих пор было делом неслыханным. Один офицер сказал моему знакомому: «Мы пускаем вперед студентов, как представителей молодого поколения и интеллигенции, но если они ничего не добьются, мы выступим вперед». Следовало бы узнать, насколько такие мнения распространены между военными. Я не могу об этом судить, но мне давно уже говорили, что гвардейские офицеры очень неблагонадежны.
Натурально, люди, которые заходят бог знает куда с своими требованиями, за очень немногими исключениями делают это не из убеждения, и в случае строгих мер едва ли будут приносить себя в жертву. Я даже думаю, что они болтают оттого, что не знают, что делать из относительной свободы, которою они пользуются. Это либералы, которые напрашиваются на железный гнет, люди, потерянные с тех пор, что их не держат на помочах.
Отовсюду слышны вздохи о власти, которая смиренно скрывается. Чапский пишет: «Quand commercera-t-on a nous gouverner?»[3] Он уверяет, что волнения в Литве производятся очень немногими крикунами, которые пользуются полною безнаказанностью. Россия просто просит палки, и не только низшие классы, но и высшие слои общества. А искренним либералам, при виде этого коммунистического движения, остается поддерживать абсолютизм, который все же лучше анархии. Ты знаешь, что Михайлов во всем сознался, и что захвачено 28 студентов, из которых трое выпущены.
Возвращение государя будет критическим временем. Петр Казимирович[4] говорит: «Des decisions qu’il prendra depend le sort de son reqne!»[5] Пессимисты, – а их много, – говорят, что пяти лет не пройдет без отречения от престола, другие идут гораздо дальше. Хотя эти страхи очень преувеличены, однако несомненно, что дело очень серьезное, если власти будут все так же неловки.
Не можешь ли ты написать мне письмо, обдуманное и довольно пространное, которое я показал бы Горчакову».
Из этого письма видно, что в Петербурге волнения приняли еще гораздо более острый характер, нежели в Москве. Там находился самый центр политической пропаганды. В это самое время явилась безумная прокламация Михайлова[6], которая взывала к истреблению не только царской фамилии, но и всех помещиков и высших чиновников. В Петербурге печаталась подпольная газета, которая рассылалась в значительном числе экземпляров, и полиция никак не могла напасть на следы преступления. Брожение в обществе было непомерное, войска были заражены; в литературе высказывались самые крайние мнения. В «Современнике» главный руководитель всего этого движения, Чернышевский, явно проповедовал социалистические и материалистические теории. Он был в это время на вершине своей популярности и выступал перед публикою с самыми наглыми изъявлениями. Незадолго перед этим умер другой выдающийся корифей этой школы, Добролюбов, и друзья его выпросили у правительства разрешение читать о нем публичные лекции. Между прочим, Чернышевский рассказывал громадной, собравшейся на чтение публике первый визит к нему Добролюбова. «Когда он ушел, – говорил он, – я сказал своей жене, Ольге Сократовне: «Ты знаешь, душа моя, что я считаю себя самым умным человеком на свете; ну, представь себе, что я встретил человека, который еще умнее меня». И это отвратительное кривляние, показывающее ту степень самоуверенности, до которой дошли эти господа, и эта бессмысленная пропаганда, клонившаяся к разрушению всего существующего общественного строя, учинялись, в то время как правительство освобождало двадцать миллионов крестьян от двухвекового рабства. Сверху на Россию сыпались неоценимые блага, занималась заря новой жизни, а внизу копошились уже расплодившиеся во тьме прошедшего царствования гады, готовые загубить великое историческое дело, заразить в самом корне едва пробивающиеся из земли свежие силы.
В Москве был только отголосок петербургского движения, которое в университетской молодежи находило, разумеется, наиболее сочувствия. Масса публики недоумевала, а важнейшие литературные органы, к стыду их, молчали. Ни Катков, ни Аксаков, который в то время издавал «День», не давали ни малейшего отпора пропаганде «Современника» и компании. Катков все еще проповедовал свой отрицательный либерализм, а Аксаков ратовал против правительства и высших классов, оторванных от народной почвы. В университетском вопросе оба держали себя двусмысленно. Стоять за закон и порядок печатно никто не дерзал. Были и такие журналисты, которые подзадоривали студентов. Нелепая графиня Салиас, издававшая тогда «Русскую Речь» и воображавшая себя созданною для журнальной деятельности, кипятилась за них с всею необузданностью своего рьяного либерализма. Рассказывали даже, что она на студенческие сходки присылала каких-то эмиссаров, которые ходили между молодежью и говорили: «Господа, держитесь. Евгения Тур[7] вам сочувствует». Это была ее лебединая песнь: вскоре ее постигло падение, воспетое Алмазовым[8] и предсказанное в острой эпиграмме Константина Рачинского:









