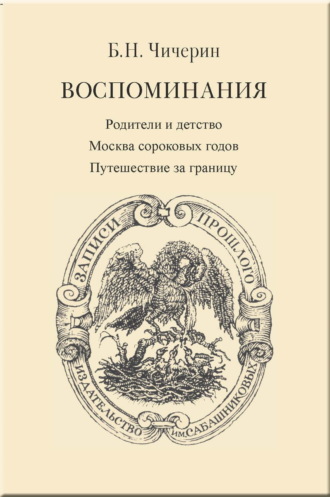
Полная версия
Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу
Гораздо лучшее впечатление произвел на него приехавший в то же время для свидания с родными Алексей Алексеевич Тучков, отец второй жены Огарева[11]. «Это не Кошелев, – писал мой отец, – в каждой фразе его виден умный человек. Правда, что по живости своей и говорливости он иногда нападает наложные мысли, но всегда умно и прилично их поддерживает. Особенно замечателен он тем, что говорит о математике с какой-то увлекательной прелестью».
Из этих выписок можно судить, каким тонким пониманием человеческих свойств и характеров был одарен мой отец. Его мнение имело тем более веса, что оно высказывалось всегда сдержанно и осторожно, но с полнейшей независимостью. Для себя он ничего не искал и не добивался и в людях ценил качества ума и сердца, а не положение или богатство. Эти правила он старался внушить и детям, предостерегая их от всякой суетливости и тщеславия. И в этом отношении письма его содержат в себе удивительно глубокие наставления. Однажды брат Василий, который тотчас по выходе из университета начинал свою службу в Петербурге, высказал сожаление по поводу того, что ему не удалось быть представленным в некоторые аристократические дома. Отец отвечал ему: «Прочитавши эти строки, я не мог не пожалеть о тебе. Неужели ты так скоро заразился пустым тщеславием, этою общею болезнью великосветских людей? Неужели твоя свежая душа приняла уже в себя гнилые миазмы светской атмосферы? Рассуди хорошенько, для чего ты желаешь войти в так называемый высший круг, составленный по большей части из людей, в сущности, пустых, но чопорных и надутых, прикрывающих, конечно, свой жестокий эгоизм и внутреннюю бедность блеском наружной роскоши и приятностью форм. Подумай о том, что в этот круг ты мог бы только иногда являться, но оставаться в нем постоянно для тебя было бы невозможным, не имея денежных средств… Я начинаю думать, что в тебе менее самостоятельности, нежели я предполагал; мне казалось, что, вступая в свет, ты будешь изучать его формы и благоразумно наслаждаться его удовольствиями, не теряя из виду своей цели, не забывая условий своего положения, сохраняя прямоту понятий, истину и теплоту чувства; но теперь мне кажется, что свет коснулся твоей души своею дурною стороною. Одумайся, милый Вася, пока еще есть время, пока порча не проникла до костей, как говорится. Яд тщеславия сначала понемногу всасывается в душу, а потом так в ней растворяется, что не оставляет свежего местечка. Тебе оно, кроме нравственной порчи, принесет еще и тот вред, что всегда будет тебя мучить как неудовлетворенное чувство. Пойми, что я говорю о тщеславии, а не о том естественном самолюбии, которое каждому образованному человеку внушает желание принадлежать к хорошему обществу. Это самолюбие в тебе должно быть удовлетворено, потому что некоторые из тех домов, в которых ты бываешь, принадлежат к высшему кругу, и если в других знакомых тебе домах не отличаются утонченностью светских условий, изяществом форм, зато в них находишь истинные условия хорошего общества: при отсутствии грубости и невежества простоту обращения, пристойность, искренность в сношениях, благородство чувств и образа мыслей. Во всех этих домах ты или любим, или оценен как молодой человек не без достоинства – чего же тебе еще хочется относительно общества? Может быть, ты мало встречаешь людей с высоким развитием; но таких людей везде немного, а в высшем кругу еще менее, нежели в сферах более скромных. Я не жил в высоком кругу, но известно, что там этикет и формы составляют существенные условия, до того стеснительные, что не оставляют ни малейшего простора уму и чувству. В такой сфере для меня было бы не только скучно, но и душно. Правда, я стар, и потому всякое принуждение мне тягостно, но ты можешь и должен выдержать всякое принуждение, если имеешь в виду достижение какой-нибудь серьезной цели; только надобно, чтобы эта цель была не пустое тщеславие. Еще раз повторю: берегись этой заразы, умертвляющей все истинно доброе и прекрасное в душе человека, и разочти свои денежные средства. По моему мнению, не надобно ставить себя в такое положение, которое нельзя долго выдержать».
Опасения насчет брата были напрасны; они проистекали из любвеобильного отцовского сердца. Но эти строки показывают, как трезво, тонко и глубоко отец смотрел на людей и на отношения. Трудно встретить более меткое, благородное и вместе мягкое назидание.
Оттого он и пользовался всеобщим уважением. Расположения его искали как дара; дружба его была редким сокровищем. По своему просвещенному уму, по своей любви к умственным интересам и образованию, он естественно сближался более всего с людьми, стоявшими с ним на одном уровне, и таких, как увидим, можно было найти в Тамбовской губернии. Но он охотно сходился и с людьми не столь высокого свойства, в которых привлекали его симпатические стороны характера, добродушная веселость или рыцарское прямодушие. Вообще, не любя большого общества, он был доступен в домашнем кругу и гостеприимно открывал двери своего дома многочисленным родным и приятелям.
Наконец, ко всем этим редким свойствам ума и воли присоединялось врожденное чувство изящного. Самая его наружность носила на себе печать изящества. Он был среднего роста, с выразительными и красивыми чертами лица; в молодости он был очень хорош собою. Одевался он просто, но всегда тщательно и по последнему вкусу; во всей его особе не было ни малейшего признака неряшества. Он представлял из себя старого военного хорошего тона; как бывший офицер, он носил усы. Безукоризненным изяществом отличались и его манеры, полные спокойствия и достоинства. Его редкое умение управлять собою выражалось в том, что у него никогда нельзя было заметить ни одного нетерпеливого или некрасивого движения. Он умел воспитать в себе ту изящную простоту форм, которую он ценил и в других, не придавая им, впрочем, преувеличенного значения. Изящество он любил и во всей своей обстановке. Со вкусом сделанный дом, хорошо разбитый сад, щегольский экипаж, красивые лошади, стройное дерево приводили его в восторг. Но никогда он внешнему убранству не жертвовал ничем существенным и еще менее думал делать из этого предмет пустого тщеславия. Он мог точно так же жить среди самого простого быта, задавая себе только целью постоянно украшать свою жизнь по мере сил и средств, в чем и успел совершенно.
Но главное, что его пленяло, это было изящество речи. Всякое меткое выражение, всякий счастливый оборот останавливали на себе его внимание. Нередко он даже записывал фразы, которые его поражали. Напротив, его коробила всякая неправильность. Помню, что он не мог переварить слышанного им от заезжего из Петербурга барона Розена[12], который во французском разговоре произнес «бюрократа» вместо «бюрокраси». «Как возможно столичному жителю, вращающемуся в высшем обществе, говорить таким образом!» – восклицал он. Такое чуткое внимание к красоте форм делало его тонким судьею литературных произведений. Не только общий их характер, но и каждую частность он ценил и взвешивал с верным пониманием. Бывало, Павлов прочтет какие-нибудь стихи; отец тотчас скажет, что в них хорошего и дурного. Раз при мне кто-то прочел неизданное стихотворение, которое приписывалось Пушкину. Отец тотчас сказал: «Да, это его; никто другой не мог этого написать».
Понятно, что и в воспитании детей одна из существенных забот его состояла в том, чтобы внушить им необходимость выработать в себе изящество речи. Он твердил мне об этом постоянно и сетовал на то, что я не обращал на это достаточно внимания. Однако он и тут не переходил через меру и никогда не думал жертвовать сущностью форме. Как умно и верно он судил об этом вопросе, можно видеть из следующих строк, писанных к нам, когда мы были уже студентами: «Прежде я не желал, чтобы вы получили сильное литературное образование, боясь его невыгоды, которая состоит в том, что оно дает способность говорить о всяком предмете, не изучив его, и от этого молодые люди приучаются удовлетворять себя искусством убирать внешним образом внутреннюю пустоту. Этого нельзя не бояться, но неуменье владеть словом еще хуже, особенно у нас в России, где до сих пор ценят форму гораздо более, нежели содержание». Когда же я вступил на литературное поприще, он строго судил всякое неправильное выражение и говорил, что он для меня необходим как литературный судья. Он не подозревал, увы, что в последующее время изящество речи будет становиться ни во что.
Сам он говорил мало. Серьезный и сдержанный, он редко высказывался и, понимая шутки, сам никогда почти не шутил. Однако он умел вести светский разговор с дамами, которые его занимали, и любил иногда распахнуться в дружеской беседе, особенно за бокалом вина. Он охотно угощал у себя приятелей, а когда приезжал в Москву, то первое дело было поехать с друзьями пообедать и насладиться умным разговором. Он редко позволял себе и это удовольствие, ибо оно вредно действовало на его здоровье; но он любил вино как воодушевляющее средство для оживленной беседы. Оно имело для него некоторую поэзию. Не раз за обедом, поднимая бокал, он повторял стихи Баратынского:
И покрыл туман приветныйТвой озябнувший кристалл…[13]Могут спросить: какие были его убеждения, религиозные и политические? Что он в этом отношении мог передать детям?
Религиозный по натуре, исполняя обряды своей церкви, он никогда не прикреплялся к наружному богочестию. Религия представлялась ему не в виде узкой догмы или кодекса обязательных правил, а высшим освящением нравственного мира, залогом и предвозвестником будущей жизни. Он говорил, что чувству открывается многое, что недоступно разуму. Но чувство у него было широкое и терпимое; в нем не было ничего вероисповедного и еще менее сектантского. Отец одинаково обращался с религиозными и нерелигиозными людьми, понимая, что высшие вопросы бытия могут различно решаться внутренним разумением каждого. Поэтому он не старался влиять и на детей в том или другом направлении. Давши им религиозное воспитание, в детском возрасте вверив их вполне попечению матери, он в более зрелых годах предоставил их руководству жизненного опыта и собственной совести, зная, что заложенных в них задатков достаточно для того, чтобы рано или поздно вывести их на истинный путь.
Столь же мало старался он влиять на них и в отношении к политическим взглядам. Сам по убеждениям он был умеренный либерал. Кабинет его украшали портреты освободителей народов: Вашингтона, Франклина, Боливара, Каннинга. Впоследствии он подарил их мне, и они висят в моем кабинете, напоминая мне счастливые дни детства и священные предания семьи. Но, как русский человек, он понимал положение России, потребность в ней сильной власти. Поэтому он всегда относился к власти с уважением и осторожно: мой юношеский либеральный пыл иногда приводил его в ужас. Когда в пятидесятых годах заговорили о реформах, он, вполне признавая их необходимость, смотрел вперед с некоторым сомнением, опасаясь неизвестного будущего и полного переворота в частной жизни. Его страшила судьба детей. Прежде всего он был патриот. В Крымскую кампанию его мучила и волновала всякая неудача русского оружия [14]. Честь и слава России были для него всего дороже. Но и в этом чувстве не было ничего узкого и исключительного. Любя свое отечество, он был далек от бессмысленного самопревознесения и еще более от невежественного самохвальства. И в этом, как и во всем остальном, с верным и здравым чувством соединялся просвещенный разум, чуждый всякой односторонности и всякого увлечения.
Таков был мой отец. Все знавшие его близко сохранили о нем благоговейную память. Не много их осталось в живых; все старые друзья дома давно вымерли. Но когда я на старости лет встречаю старика, видевшего нашу тогдашнюю семейную жизнь, я с удивлением слышу повторение тех же благоговейных отзывов. В начале пятидесятых годов жил у нас в деревне учителем младших братьев только что окончивший курс в университете, впоследствии профессор русской истории, Бестужев-Рюмин. Не видав его много лет, я встретился с ним в Ялте, где он проводил зиму, больной и на покое. Я глубоко был тронут, услышав, что он со слезами на глазах вспоминает о моем отце, особенно о его высоком нравственном влиянии, которому, по его словам, он обязан лучшим, что у него сохранилось в душе. Больной и разбитый старик мечтал о том, чтобы когда-нибудь ему удалось совершить паломничество в Караул, где протекли самые светлые годы его жизни. Этой мечте не суждено было сбыться.
Не одно сыновнее чувство побудило меня распространяться о моем отце, а также и желание дать верное изображение той среды, в которой протекла моя молодость. Отец мой может служить представителем лучших сторон тогдашнего провинциального быта, недостаточно оцененного русскою литературою. Это не был столичный житель, случайно заброшенный в степную глушь; он родился, воспитывался и почти всю жизнь провел в провинции. Подобные люди делают честь тому обществу, из которого они вышли. Могут сказать, что это было исключение. Нерядовые люди всегда бывают исключением, но они вырабатываются под влиянием окружающей среды и носят на себе ее отпечаток. Вообще было бы крайне ошибочно судить о русской провинции прежнего времени по «Мертвым душам» и «Ревизору» или даже по «Запискам охотника». Лучшие ее элементы остались незатронутыми русской литературой, которая в преследовании высших идеалов беспощадно карала то, что было им противно, не заботясь о полноте изображения. Благородная цель служит оправданием одностороннего направления сатиры прежнего времени. Но теперь, когда это все отошло в область давно прошедшего и представляет как бы отжившую формацию, какую цель можно иметь, изображая старый русский провинциальный быт в виде «Пошехонской старины»? Разве доказать, что автор в своей жизни ничего не видал, кроме грязи?
Моя мать была достойною подругою моего отца. И она родилась и воспитывалась в Тамбовской губернии; но ее воспитание было настолько тщательно, насколько было возможно по тогдашним средствам. Наставником ее был живший в доме моего деда, добрейшего Бориса Дмитриевича Хвощинского, швейцарец Конклер, человек образованный и почтенный. Когда он по окончании занятий уехал на родину в СенТаллен, мать оставалась с ним в переписке до самой его смерти. От этого воспитателя у нее сохранились на всю жизнь уважение к образованию и любовь к умственным интересам, качества, которые, конечно, могли только усилиться и развиться под влиянием отца. С своим живым и восприимчивым умом, интересующимся всем на свете, она охотно слушала умные речи, хотя с свойственным ей тактом редко вмешивалась в разговор об общих вопросах, умея только своим вниманием вызывать выражение мыслей. Характера она была живого, пылкого, даже ревнивого, не в отношении к отцу, который никогда не подавал к тому ни малейшего повода, несмотря на то, что был поклонником женской красоты и изящества, а позднее в отношении к женатым сыновьям, которых она часто несправедливо ревновала к семействам их жен. Глубоко религиозная, она строго исполняла правила благочестия и тому же учила детей. Вся она была предана семье; счастье мужа и попечение о детях были единственною ее заботою. К мужу она питала не только самую горячую привязанность, но и глубокое уважение. Всякое слово его было для нее свято; всякое его желание, малейшее удобство были предметом заботливого попечения. Она боялась неловко затронуть в нем какое бы то ни было чувство, и, когда высказывала суждения, несогласные с его мыслями, она всегда делала это в самой любовной форме, предоставляя ему окончательное решение. И отец, с своей стороны, столь же мало стеснял ее, как он мало стеснял детей; все ограничивалось нравственным авторитетом. Взаимное доверие между супругами было полное. Поводов к разногласию было тем менее, что они сходились во взглядах и на людей и на отношения. Для обоих вся цель существования заключалась в благе семьи, которое они одинаково полагали не в суетных прикрасах, а в серьезных основаниях жизни.
Для себя же лично мать требовала весьма малого. Она не любила ни шумного общества, ни нарядов. Одетая всегда просто, но никогда небрежно, она ни в чем не проявляла ни малейшей прихотливости и часто воздерживала стремления отца к украшению обстановки. В одном письме она пишет мужу, который в это время был по делам в Петербурге, что напрасно он купил дорогую коляску, без которой можно обойтись. Сама она до конца жизни, слепою старухою, ездила в деревню в простом тарантасике и никогда не хотела иметь другого экипажа. При таких вкусах она редко выезжала из дому и только в самую раннюю пору посещала большие собрания и вечера; обыкновенно же туда отправлялся один отец для поддержания светских сношений. Зато дома она любила принимать родных и друзей. Родственные отношения были для нее святы, как вообще для людей старого века, а так как роднёю была чуть ли не половина губернии, то гостей у нас собиралось всегда много. Но и с посторонними она сближалась охотно, если они приходились ей по сердцу. Приветливая и ласковая ко всем, в отношении к более близким она была неизменным и искренним другом, принимала горячее участие в их радостях и горе и всегда готова была все для них сделать, даже с значительным самопожертвованием. Поэтому она до конца жизни пользовалась безграничною преданностью всех, кто ее знал короче. Дом наш был теплым приютом, где отдыхали сердцем, куда стекались и старые и молодые. И когда она, после смерти мужа, ослепшая и окруженная семейством, осталась жить в родном городе, она была предметом всеобщего уважения, и все ездили к ней на поклон.
Первые годы после свадьбы мои родители провели большею частью в родовом имении отца селе Покровском Козловского уезда. Но они жили там недолго. Местность была довольно безлюдная; образованных соседей, с которыми приятно было бы иметь постоянные отношения, почти не было. В 1830 году отец занемог и вместе с моей матерью отправился на лечение в Москву, взявши меня, еще двухлетним малюткою, с собою и оставив второго моего брата на попечении тетки, Софьи Борисовны Бологовской. В Москве отцу делали какую-то операцию, после чего ему нужно было еще оставаться там для окончательного излечения. Но так как мать должна была родить и ей неудобно было ехать в позднюю осеннюю пору, то она вернулась одна, на этот раз в имение моего деда, село Умёт Кирсановского уезда, куда потом приехал и отец и где родился мой третий брат. Здесь они остались жить, ибо среда была совершенно иная, нежели в Козловском уезде.
В другом месте[15] я имел случай изобразить то замечательное общество, которое сложилось в этом отдаленном уголке России. Здесь для полноты картины я должен повторить многое сказанное там.
Ближайшими соседями были Кривцовы. Они жили в Любичах, всего в трех верстах от Умёта, так что дамы нередко делали друг другу визиты пешком. Николай Иванович Кривцов был человек необыкновенного ума, с европейским образованием и с железным характером. Он также был родом из провинции. Все свое детство он провел в деревне в Орловской губернии, почти без всякого воспитания. Еще юношей его повезли в Петербург и прямо определили в полк. Сначала он предался обычному в военной службе разгулу: в одном месте своего дневника он упоминает о своей бурной молодости. Но гвардия александровских времен отличалась не одними кутежами. Аристократическая молодежь того времени питала в себе благородное стремление к образованию, с чем неразлучны были и либеральные идеи. Роковое событие 14-го декабря положило конец всем этим зачаткам. Либерализм в гвардии был истреблен до корня, с ним вместе исчезло и стремление к образованию; остались одни кутежи. В восприимчивую душу Кривцова запали благие семена, рассеянные в окружающей его среде. Военной его карьере не суждено было длиться. Оторванная под Кульмом[16] нога принудила его покинуть военное поприще. Он решился посвятить себя гражданской службе и с целью подготовить себя к новому делу поехал путешествовать по Европе. Он посетил Германию, Швейцарию, Францию, Англию. В особенности долго он жил в Париже, который в то время был центром умственного движения в Европе. Молодой человек с жадным любопытством и раннею проницательностью осматривал все, что встречалось ему по пути; он слушал лекции по самым разнородным предметам, посещал музеи, много читал, учился английскому языку, знакомился с замечательными людьми.
Вернувшись в Россию, он разом вступил в высший литературный круг, сделался приятелем Карамзина, Тургеневых, Вяземского, Блудова, молодого Пушкина, Император Александр, который любил выдвигать даровитых молодых людей, осыпал его милостями. Сначала он вступил в Министерство иностранных дел и был причислен к русскому посольству в Англии. Там он внимательно изучал учреждения и нравы этой сильно привлекшей его к себе страны. В особенности он пленился английским сельским бытом, который представился ему идеалом изящества и удобства. С тех пор он сделался англоманом, что придало новый аристократический оттенок прежнему либеральному его образу мыслей. Однако он недолго пробыл за границей; цель его была служить отечеству внутри России. Вернувшись, он был назначен губернатором сначала в Тулу, потом в Воронеж и наконец в Нижний. Но и гражданское его поприще было непродолжительно. Человек вполне независимого характера, не привыкший гнуть спину, с аристократическими приемами и убеждениями, он, в сущности, вовсе не был создан для чиновничьей карьеры. Беспрестанно выходили столкновения, в которых его поддерживало только расположение любившего его государя. После смерти Александра Павловича поддержки уже не было, и он скоро должен был оставить службу. Враги его не гнушались даже измышлением всяких клевет, которые потом повторялись провинциальными сплетниками. Его выдавали за человека необузданного, тогда как в действительности он был чрезвычайно сдержан, хоть мог иногда через меру вспылить, когда его выводили из терпения. За строптивый нрав (официальный термин для независимости характера и неумения угождать начальству) он лишился губернаторского места и был причислен к департаменту герольдии. Возмущенный, он вышел в отставку и с тех пор поселился в деревне, исполняя свое заветное желание сделаться помещиком и осуществить на деле свой идеал частного быта. Этого он и достиг вполне.
Имение, в которое Кривцов переехал на жительство, принадлежало его жене, рожденной Вадковской. Но помещичьего поселения тут не было. Негде даже было пристать, так что на первых порах пришлось приютиться в Умёте у моего деда, который принял нового соседа с своим обычным радушным гостеприимством. С тех пор завязалась тесная связь между обеими семьями. Построив небольшой флигель, Кривцов перевез сюда свое семейство, состоявшее из жены и единственной дочери. Затем он неутомимо принялся за работу. Труд предстоял громадный, ибо в Любичах не только не было жилья, но не было ни одного деревца. Чистая и голая степь с маленькою речкою Вяжлею, на которой стояла небольшая мельница, – вот все, что он тут нашел. Задача была тем более трудная, что средства были далеко не широкие. Нельзя было, в подражание английским лордам, кидать деньги на всякие затеи, а приходилось рассчитывать каждую копейку. Но глубокий практический смысл Кривцова, его редкая энергия и неуклонное постоянство в преследовании раз задуманной цели все превозмогли. Мало-помалу, под влиянием мысли и воли этого замечательного человека кирсановская степь украсилась изящною усадьбою, совершенно в европейском вкусе, не похожею на окружающие помещичьи поселения. Дом был большой и удобный, отделанный с всевозможным комфортом и изяществом, содержимый в неизвестных русской жизни чистоте и порядке. В нем была большая библиотека с отдельным помещением возле гостиной; были примыкающие к нему оранжереи и теплицы. Вокруг дома с отменным вкусом был разбит большой английский парк, среди которого возвышалась красивая, англо-саксонской архитектуры, башня, где помещались приезжие гости. Она служила украшением местности и была для хозяина напоминанием о любимой его стране. В том же стиле построены были впоследствии домовая церковь и дом для причта; наконец, в пустынной степи воздвиглась маленькая готическая часовня, где хозяин заранее приготовил себе собственную могилу с характеристическою надписью: «Nec timeo, nec spera»[17]. Так же капитально, хотя и в более простом вкусе, построены были все принадлежности и хозяйственные здания. Всякая подробность была заранее обдумана, изучена, рассчитана и исполнена с совершенною точностью. Кривцов работал без устали, не жалея себя, разъезжая обыкновенно в таратайке, иногда даже в телеге. А когда нужен был совет, он обращался за ним без малейшего самолюбия, без всякого желания показать, что он сам все делает. Несмотря на то что он был страстный и знающий садовод, когда пришлось разбивать парк, он отправился в Пензу за известным в то время садовником Макзигом, стоявшим во главе казенного сада. Он привез его с собою, работал с ним вместе и сам, с своею пробочною ногою, взбирался на башню, чтобы оттуда обозревать окрестность и чертить общий план дорог и посадок.
Результат всей этой многолетней деятельности вышел такой, что хозяин мог им справедливо гордиться и называть себя создателем Любичей. Это был благоустроенный, образованный центр, заброшенный в далекую русскую степь, дело великое и благотворное во всяком гражданском быту. Кривцов жил здесь, вполне довольный своею судьбою. Он нередко это высказывал, прилагая к себе стихи из «Бориса Годунова»:









