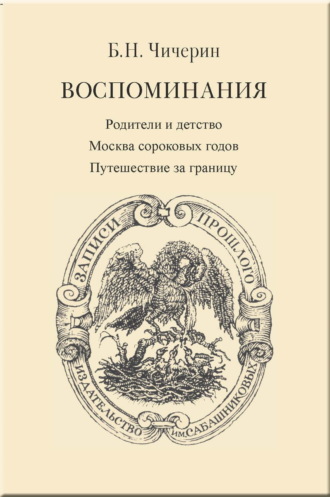
Полная версия
Воспоминания. Том 1. Родители и детство. Москва сороковых годов. Путешествие за границу
Такие же колебания испытал молодой Чичерин и в отношении социально – политических своих взглядов. В годы молодости он, «как 20-летний юноша, разумеется, сочувствовал крайнему направлению». Но события 1848 г., показавшие наглядно угрозу для его сословия, таившуюся в этом «крайнем направлении», оттолкнули его от него: «Для меня громовым ударом, – пишет он, – были июльские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен и водворен Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я по-прежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества; на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достичь прочных учреждений».
Впечатления 1848 года толкнули Чичерина, таким образом, в сторону консерватизма. Это отразилось на его отношении к социализму. Если в юности он готов был принять его как «смутный идеал отдаленного будущего», то события, развернувшиеся перед ним, сразу охладили его сочувствие к нему, и «все эти мечты рассеялись, наконец, в более зрелую пору жизни». Отсюда исключительно резкие отзывы о социализме и его провозвестниках, отсюда декламация против «шарлатанства демагогов, которым нетрудно увлечь за собой невежественную массу, лаская ее инстинкты, представляя ей всякие небылицы и возбуждая в ней ненависть к высшим классам», отсюда недостойные выходки по адресу Чернышевского и вообще всех русских «нигилистов». Борьба с революцией делается основным лозунгом политической программы Чичерина. Манифестом этой борьбы было известное его письмо в «Колоколе» 1 декабря 1858 года.
Но, выступая против революционных лозунгов, Чичерин отмежевывается и от крайних правых взглядов. Поклонник правового строя и культуры Запада, он зло высмеивает славянофильские фантазии и жестоко бичует реакцию в лице Каткова, гр. Дмитрия Толстого, Победоносцева. И в своем консерватизме он был непоследователен. Он признавал блага парламентского образа правления. «Теоретически, – говорил он – конституционная монархия лучший из всех образов правления, к представительному порядку стремится всякий образованный народ, но… он требует условий, которые не всегда налицо». Этих условий Чичерин долгое время не находил в России. В России он проповедовал необходимость сильной власти, мощного государства. Его письма к брату в 1861 г., негласно доходившие до царя, представляют собой сплошной гимн «сильной власти» и приобрели ему благорасположение высших сфер; его приятельница Э. Ф. Раден, фрейлина великой княгини Елены Павловны, сравнивала его с наиболее видным из современных носителей идеи консерватизма в Западной Европе, с Руэ. Но, идеализируя власть, Чичерин отрицал то, что он называл «власть в голом виде», то есть произвол. Сильную власть необходимо было, как он внушал Горчакову, соединить с «либеральными мерами».
Предоставляя государству всю полноту власти, Чичерин мыслил это государство, как государство правовое, и в этом было опять тяжелое противоречие, которое язвительно отметил в желчном письме к нему Кавелин. Свой политический дуализм он рельефно выразил в вступительной речи в Московской городской думе, когда был избран городским головою в 1881 г.: «По своему характеру, по своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал не в том, конечно, смысле, в каком нередко принимается это выражение, которое выставляется каким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в том смысле, какой может придавать ему разумный человек, любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэтому я всегда буду готов идти рука об руку с властью. Но идти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости своих суждений. Человек с самостоятельным образом мыслей дает свое содействие не иначе, как сознательно и свободно. Я уверен, что в интересах самой власти встречать перед собой не страдательные только орудия, а живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежащую поддержку, ибо только тот, кто способен стоять за себя, может быть опорою для других. Мы живем в трудное время, где приходится бороться с внутренними врагами, и это налагает на нас обязанность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы должны обдумывать каждый свой шаг, дабы не поколебать и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не покидая… почвы права, мы должны стараться соблюсти счастливую середину между старыми привычками безусловной покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции… Будем постоянно помнить… что только согласным действием правительства и общества мы можем победить гнетущий нас недуг и приготовить для своего отечества более светлое будущее». Таково политическое credo Чичерина, как оно сложилось к концу его общественной деятельности.
Политическому идеалу Чичерина вполне, в сущности, удовлетворял бюрократический либерализм начала царствования Александра II. Реформы 60-х годов оставались для него всегда проявлением высшей государственной мудрости и справедливости, во имя которой он готов был многое простить власти.
В конце концов, как и многие самые просвещенные его современники, он был сторонником «абсолютизма», действующего на основах строгой законности и социальной «справедливости».
Этот политический идеал нашел себе выражение во всей общественной деятельности Б. Н. Чичерина. Он хотел работать рука об руку с властью, под условием, чтобы власть действовала закономерно. Свой тонкий ум, свою блестящую диалектику, свои глубокие познания, все силы своей мысли он готов был предоставить в распоряжение «просвещенного и мудрого» правительства; оппозиция для оппозиции ему претила. В 1861 г., когда вспыхнули студенческие беспорядки, он осуждал правительство за его мероприятия, но со всей силой убежденности поддерживал его требования и помогал восстановлению порядка. В эту эпоху он пытался даже играть роль негласного маркиза Позы и посредством писем к брату, доходивших через Горчакова до государя, стремился влиять на действия правительства в направлении, которое он считал справедливым. В 1868 г., когда большинство Совета университета допустило, по его мнению, ряд незаконных действий, он обратился, первым делом, к начальству для восстановления попранного права и, не добившись правосудия, вызвав своим упорством недовольство монарха, подал в отставку и не вернулся в университет, несмотря на то, что доброжелателям удалось замять дело. Избранный в 1881 г. московским городским головою, он проявил те же свойственные ему черты – независимость перед администрацией и лояльность в отношении монарха, и пытался использовать свое почетное положение для достижения основной цели своей политической деятельности – установления связи между верховной властью и обществом, в чем он видел единственное средство для создания сильного правительства и для борьбы с революцией. Таков смысл его знаменитой речи на обеде городских голов. В правительственных сферах она была истолкована, как требование конституции, и политической карьере Чичерина был положен конец.
Так, под маскою сильного и самоуверенного человека, доктринера с строгим и определенным, научно построенным миросозерцанием, проглядывают черты человека переходной эпохи, с характерными для нее раздвоенностью и колебаниями. Борьбу этих двух идеологических течений, которые столкнулись в его личности, Чичерин пережил именно в те годы, которые связаны с пребыванием в университете и с подготовкой к научной деятельности. Это и делает публикуемые главы его «Воспоминаний» особенно интересными. Чичерин как бы переживает вновь свои юношеские увлечения новыми идеями; отсюда свежесть и сила его «Воспоминаний» за эти годы. Но по этим впечатлениям молодости прошла уже рука старика, отказавшегося от своих былых исканий и думающего, что в «зрелую пору жизни» нашел верный ответ на все волновавшие его юношескую душу вопросы. […]
С. Бахрушин.
20 июня 1929 г.
Предисловие
О милый гость, святое Прежде,Зачем в мою теснишься грудь?Могу ль сказать: живи – надежде?Скажу ль тому, что было: будь?Жуковский (Песня, 1818)Наше поколение пережило эпоху величайшего перелома в русской истории. Мы видели конец быта, построенного на крепостном праве, мы были деятелями или свидетелями великих преобразований, разрушивших до корня старый порядок и положивших начало новому общественному строю, основанному на всеобщей гражданской свободе; нам довелось, наконец, видеть воочию ближайшие плоды этих преобразований, плоды, которые на первых порах вместе с радостями принесли нам, может быть, еще более горя. Сколько пламенных надежд, сколько благородных стремлений – и как мало настоящее соответствует ожиданиям! Казалось, освобожденное русское общество, стряхнувшее вековые оковы, воспрянет с новою силою и проявит все сокровища, таившиеся в глубине народного духа.
Вместо того перед нами расстилается однообразная серая равнина, где с трудом можно встретить какое-либо отрадное, возвышающее душу явление. Сверху гнет старой бюрократической рутины и формализма, стремящихся к прежнему безграничному господству; снизу стоячее болото, где мелькающие огоньки мысли служат только признаком гнилого брожения; дряблость и раболепство в обществе, пошлость и бездарность в литературе – вот все, что нас окружает. И в такой безотрадной картине незаметно ничего, что бы обещало лучшее будущее.
Человеку, пережившему это смутное время, видевшему вблизи все действовавшие в нем пружины, подобает передать потомству взгляд современников на эти знаменательные события. Я могу сделать это с полным знанием дела и с возможным для человеческой природы беспристрастием.
Моя молодость протекала среди старого дворянского быта, которого я состою живым свидетелем. Я видел этот быт и в провинции, и в столице. Я воспитался в умственном движении сороковых годов и был близок к главным его деятелям. Я коротко знал и всех замечательнейших людей эпохи преобразований. Наконец, мне самому привелось быть деятелем и участником в различных общественных средах, созданных или обновленных реформами прошедшего царствования, в университетах, в земских собраниях, в городском самоуправлении. И теперь, приближаясь к концу своего земного поприща, живя почти в полном уединении, отставши от людей и не имея ничего впереди, среди поблекших надежд и разрушенного счастья, я часто мысленно переношусь в утекшие времена и нахожу отраду в беседовании с прошлым. Передо мною восстают образы людей, к которым я был близок и которых я любил, представляю себе благородные черты того крепкого поколения, среди которого я воспитался, их живые умственные интересы, их глубокое уважение к образованию, их сильные характеры, их широкий, просвещенный и вместе светлый взгляд на жизнь. Почти все они сошли в могилу; с ними похоронено все, что их мучило и вдохновляло. Явились новые люди, с иными взглядами и стремлениями; люди, среди которых я чувствую себя чужим, как бы остатком вымершей формации:
Один – на ветке обнаженнойТрепещет запоздалый лист!..[5]Однако эта сердечная память о прошлом не заставляет меня смотреть недоброжелательно на те преобразования, которые положили конец старому порядку. Напротив, я глубоко убежден в их необходимости и своевременности. На старости лет я не отрекся от благородных стремлений своей юности, но сохранил непоколебимую веру в те идеи, которые нас тогда воодушевляли. Совершенные преобразования составляли самую заветную мечту лучших людей прежнего поколения. Эта мечта сбылась, и если она не принесла того, что от нее ожидалось, то виною в том прежде всего неотразимый ход жизни, который дает медленным и трудным путем то, что в идеале представляется легко достижимым. Виноваты в значительной степени и люди, которые своим неразумением, невежеством, иные сумасбродными мечтами, другие мелкими и корыстными целями портили и портят великое дело. Виновато, наконец, измельчавшее, погрязшее в апатию, испуганное чудовищными явлениями общество, потерявшее веру в прежние идеалы и, главное, потерявшее уважение к человеку.
Преобразования застигли Россию в критическую эпоху. Прежний невыносимый гнет не только не давал ничему приготовиться, но, напротив, беспощадно подавлял всякие благие зачатки, которые появлялись в незрелой еще общественной среде. Прежнее общество исчезло, когда новое еще не сложилось. Наши потомки пожнут плоды посеянного ныне, но нам этими плодами не придется насладиться. Нам остается только передать им назидательную повесть о том, что мы видели и совершили, о своих целях, надеждах и разочарованиях.
Может быть, потомок найдет некоторый интерес в моем повествовании, а если нет, то оно послужит услаждением для меня самого. Переносясь в прошлое, я буду вновь переживать счастливые дни своего мирного детства, пламенные увлечения и разочарования юности, испытания зрелых лет, все радости и горе жизни; я буду беседовать с теми, кого любил и кого уже нет. Во всем этом есть поэзия, которая служит украшением старости, особенно если мы лишились тех радостей в настоящем, которые на склоне лет служат утешением людей. Поэтому да не посетует читатель, если в моих воспоминаниях будут вырываться черты, чисто лично до меня относящиеся. Постараюсь не слишком о них распространяться; во всяком случае, я не намерен вводить хотя бы и будущую публику в свою сокровенную жизнь.
19-го сентября 1888 года
Село Караул
Мои родители и их общество
Я родился в Тамбове 26-го мая 1828 года. Мои родители были тоже тамбовские уроженцы. Отец мой принадлежал к отрасли старого дворянского рода, давно поселенной в Тамбовской губернии. В наших дворянских документах значится, что наш предок, Матвей Меньшой сын Чичерин, за московское сидение при царе Василии Ивановиче получил из поместья в вотчину имение в Лихвинском и Перемышльском уездах ныне Калужской губернии[6]. Оттуда наша ветвь перешла в Тамбовский край. Мой прадед Дементий Андреевич был здесь воеводою и оставил по себе хорошую память. После учреждения губерний[7] он был выбран советником уголовной палаты. Председатели в то время еще назначались правительством. Дед мой Василий Дементьевич в екатерининские времена служил в Преображенском полку. Он вышел в отставку с чином полковника, женился на Извольской и поселился в Тамбове. Мне в детстве показывали его длинный и низенький деревянный дом на берегу реки, на углу Тезикова переулка. После его смерти этот дом был продан. Ни деда, ни бабки я не знал; мои воспоминания начинаются с отца.
Николай Васильевич Чичерин родился в 1803 году. Он воспитывался дома, но, по тогдашним провинциальным нравам и средствам, получил весьма скудное образование и рано был определен в военную службу. «Меня не учили так, как вас, – пишет он в одном письме. – Я окончил изучение языка тринадцати лет у тамбовского семинариста. После я учился в полку, переписывая то, что мне нравилось в книгах, и стараясь отгадывать правила и красоты языка, не имея никого, кто бы мог мне их объяснить».
Отец служил в Переяславском конно-егерском полку, который был расположен где-то в провинции, кажется, около Венева. К счастью для любознательного юноши, в ту местность, где стоял полк, приехал одно лето погостить к приятелю известный профессор сельского хозяйства в Московском университете Михаил Григорьевич Павлов. Это был человек высшего ума и образования, с философскими взглядами, умевший действовать на молодежь. Молодые офицеры собирались вокруг него, и он старался возбудить в них жажду знания. Искра запала в восприимчивую душу моего отца, он взял отпуск и уехал учиться в Москву.
Здесь он через посредство М. Г. Павлова завел некоторые литературные знакомства. В особенности он сблизился с известным остроумным водевилистом Писаревым и Николаем Филипповичем Павловым. Оба они были люди умные, образованные и даровитые и оба страстные игроки. Они в то время жили вместе у Федора Федоровича Кокошкина, тогдашнего директора театров. Михаил Семенович Щепкин рассказывал, что однажды, зашедши к ним перед каким-то праздником, он застал их играющими вдвоем в азартную игру. Ни у того ни у другого не было денег; весь их капитал состоял в двадцати пяти рублях, которые переходили из рук в руки. Через два дня Щепкин поехал поздравить Кокошкина с праздником и опять зашел к двум приятелям. И что же он увидел? Они с тех пор не вставали с места; в халатах, с раскрасневшимися глазами, с растрепанными волосами, они продолжали свою азартную игру, и те же несчастные двадцать пять рублей, с переменой счастья, переходили от одного к другому.
Памятником тогдашнего пребывания отца в Москве осталась только одна записка следующего содержания: «Посылаю тебе Мнемозину, любезный пустынник, а Жофруа[8] постараюсь достать завтра. Будь здоров, весел и спокоен. Твой Писарев».[9]
Связь с Писаревым продолжалась недолго, ибо он рано умер; но дружба с Н. Ф. Павловым сохранилась на всю жизнь. О нем мне приходится много говорить в своих воспоминаниях. Павлов рассказывал мне, что они с отцом жили вместе, учились, ходили в университет слушать лекции. Но уже в [18] 27 году отец вернулся на родину, вышел в отставку с чином поручика и женился на дочери тамбовского же помещика, Катерине Борисовне Хвощинской. С тех пор он остался на постоянном жительстве в провинции.
Отец мой по своим свойствам был человек из ряду вон выходящий. Проживши до шестидесяти лет, я могу сказать, что не встречал в своей жизни человека, у которого было бы такое полное и гармоническое сочетание всех сторон человеческой души, ума, воли, чувства и вкуса. У него не было ничего выдающегося, но и ничего мелочного, не было: ни пристрастия, ни увлечений, ни предрассудков, ни каких-либо суетных страстей и побуждений. Ум был твердый, ясный и здравый, способный понимать как теоретические вопросы, так и практическое дело. Всякий поступок его был зрело обдуман, и раз принятое решение исполнялось с неуклонною твердостью. По природе он был вспыльчивого нрава, и случалось иногда, что, застигнутый врасплох, он не воздерживал своего гнева. Но и в эти минуты проявлялась отличительная черта его характера: его сила воли выражалась прежде всего в умении управлять собою. Мать рассказывала мне, что, когда он, бывало, вспылит, он тотчас же уходил в свою комнату и запирался, пока не улегался его гнев. Сам он пишет в одном письме по поводу кражи, совершенной его камердинером: «Ты думаешь, что я вспылил, когда узнал о низком деле моего камердинера, совсем напротив. Катерина Петровна сказала мне поутру, я просил ее никому не говорить и дал себе несколько часов на размышление. Когда он мне признался, я сказал ему, что мне его жаль, потому что он навсегда испортил судьбу свою. Я могу рассердиться за неловкость, глупость и бестолковость, могу вспылить по нечаянности и в мелких случаях жизни, но во всем, что серьезно, я всегда останавливаю первое мое движение, чтобы иметь время размыслить. Это – верная черта моего характера».
И при такой силе воли, при таком редком самообладании в нем не было решительно ничего жестокого. Во все отношения к близким он вносил удивительную сердечную теплоту и неизменную деликатность. Мы, дети, глубоко уважали отца и боялись чем-либо заслужить его осуждение, но никогда не испытывали на себе его гнева и не слыхали от него ни единого сурового слова. Перечитывая его письма, писанные к совершенно еще молодым людям, исполненные мудрых наставлений, нельзя было не быть пораженным их мягко отеческим тоном. Всякий касавшийся нас вопрос, будь то учение, работа, удовольствие или даже хозяйственное распоряжение, обсуждался им заботливо и основательно, со всех сторон, но всегда в виде совета, а никогда приказания. «Милый Борис, не оставь без внимания моих замечаний, – пишет он в одном письме. – Может быть, я не хорошо высказал мои мысли, но я убежден, что говорю дельно в отношении к вам. Это убеждение происходит не от размышления только, сердце его внушает. Подумай и отвечай мне с искренностью. Если согласен, то старайся не забывать».
Так относился к детям этот человек, всегда умевший собой повелевать. Что касается до жены, то во всех его письмах к моей матери выражается такая горячая любовь, такое полное доверие, такая нежная заботливость, такая ласковость и деликатность, что лучшей семейной связи невозможно придумать.
Подобные отношения, конечно, могли установиться только при высоком нравственном строе. И точно, я не знаю в отце ни одного поступка, ни одного душевного движения, в которых бы не высказывалась пламенная и полнейшая прямота. Подчиняясь нравам среды, снисходя к слабостям других, он никогда не вступал в сделки с собственными нравственными убеждениями. Обязанность была для него не отвлеченною меркою, не внешним предписанием, с которым человек должен сообразоваться, а внутренним голосом разумной совести, не допускавшей уклонения от истинного пути. Всецело преданный семье, поставив себе целью жизни устройство своего семейного быта и воспитание детей, он старался тот же нравственный строй водворить и в своей домашней среде; но в этом не было никакой узкости, никакой требовательности или нетерпимости. Мы никогда не слыхали от него назидательных наставлений. Нравственный дух водворялся сам собой, как нечто естественное и необходимое. Это была атмосфера, которой дышало все кругом.
С теми же нравственными требованиями и с тем же широким пониманием разнообразных свойств человеческой природы он обращался и к другим. Он всегда был сдержан в своих суждениях и редко высказывался резко; но суждение было всегда твердое, когда дело шло о нравственном поступке. Снисходительный к слабостям друзей, он глубоко огорчался всяким не совсем благовидным действием, так что мать, особенно в последние годы, старалась скрывать от него то, что в этом отношении могло быть ему неприятно. Но скрыть от него что бы то ни было было чрезвычайно трудно; с своею тонкою проницательностью он легко обнаруживал всякую ложь и всякие прикрасы. Недаром Н. Ф. Павлов, посвящая ему свои первые «Три повести»[10], обратился к нему с следующим характеристическим четверостишием:
Тебе понятна лжи печать,Тебе понятна правды краска,Но не могу я разгадать,Что в жизни быль, что в жизни сказка.Эта твердость и ясность в суждении, это широкое понимание человеческой природы, эта проницательность в уловлении самых сокровенных ее изгибов делали его глубоким знатоком людей. Это была, может быть, самая выдающаяся черта его ума. Он сразу умел оценить человека и оценить настоящий его уровень. Его письма представляют в этом отношении замечательные примеры. Так, в 1844 году вернулся из долговременного путешествия за границею тамбовский помещик А. М. Циммерман. Он несколько лет жил в Италии и привез оттуда собрание художественных произведений. В однообразной провинциальной жизни это была находка; все собирались его слушать. Но отец разом понял, что тут не было ничего, кроме внешней скорлупы. Он писал матери, которая в это время была с нами в Москве: «Общество здесь сделалось как-то еще вялее; в кругу дам оно оживляется рассказами путешественника N., который знает о Европе только то, что можно видеть простым глазом, ощущать рукою, и для которого остались непонятными, как китайский язык, причины явлений, представлявшихся глазам его, мысли, составляющие внутреннюю жизнь европейцев, даже значение светских условий и обыкновений. А они слушают его с почтением». Надобно заметить, что отец никогда еще не бывал за границею и большую часть жизни провел в русской провинции.
В это время приехал в Тамбов по винокуренным делам человек гораздо высшего разряда, нежели Циммерман, пользовавшийся известностью в литературном мире, Александр Иванович Кошелев. Но и его отец тотчас раскусил. Он писал о нем матери: «Вчера он у меня обедал и провел весь день. Я слыхал о нем как о человеке очень умном, отлично хорошо воспитанном, имеющем большие сведения и много путешествовавшем; такое явление в Тамбове очень редко, и я залучил его к себе, чтобы насладиться, слушая. В продолжение всего дня он говорил много; в разговорах виден был человек рассудительный и расчетливый, но ни одной идеи, которая выходила бы за обыкновенный круг, ни одного тонкого замечания, ни одного оборота речи, в котором можно было бы заметить человека нерядового; он даже неловко говорит. Странное дело! Видно, есть люди, которые сокровища ума и сердца прячут так глубоко, что до них не доберешься». Оценка совершенно верная.









