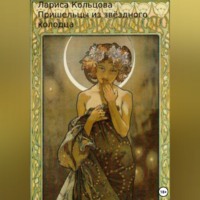Полная версия
Миражи и маски Паралеи
– Я помню, как я смотрела на реку, в небо, и не могла отделаться от ощущения, что кто-то следит за мною. Но как такое могло быть? Я думала, что это издержки обучения актёрскому ремеслу, когда всюду воображаешь себя на сцене.
– Знаковый мост, – сказал он, – пункт наблюдения. Ты, наверное, удивишься, но на мосту, помимо меня, бывал и ещё один наблюдатель. Он и не таился, поскольку был уверен, что ты достанешься ему. Вот его наблюдение ты и чувствовала. А меня как же могла ты почувствовать, если я появился там несколько позднее?
– Чапос? Нет! Я не могла его чувствовать, я никогда не была настроена на его волну! Мне казалось, что тот взгляд был из моего будущего. Я ощущала восторг и предчувствие чего-то необыкновенного, что произойдёт в моей жизни. Да.
Именно в тот момент и открылась панель входа, и вошла Икринка. Поняв всё, она не ушла, а вызывающе осталась стоять, глядя на них.
Икринка не могла и представить, какие фантазии и причуды одолевают её совсем не юного отца. Он специально усадил Нэю на их суперкомпьютер, и она отразилась в его холодной и зеркальной поверхности, не ведая перед ним никакого стыда. Она могла стесняться прошлой бедности, доходящей до позорной экономии на всём, но за саму себя она не стыдилась никогда. Она считала себя совершенством, времена подростковой неуверенности остались в далёком прошлом, как и жалкая бедность, радующаяся любому лишнему лоскутку, сэкономленному на заказе щедрой клиентки.
Вот какой разговор предшествовал незваному вторжению рассерженной дочери.
– Разве тут не ваш священный Центр? – спросила Нэя.
– И что? Мы можем его осквернить? Чем? Да что может в чреве Трола быть священным? Один чудак Франк с его склонностью к аутизму мнит, что живёт в какой-то священной горе, а тут творилось такое… Люди, обуреваемые скукой, подземной тоской, отчаянием от удалённости, и никто не дает никаких гарантий возврата, способны на разное. Мы-то здесь понимаем друг друга, и поэтому все покрывают всех. Нам же надо выживать.
Он включил ночное небо, и пространство стола – экрана засветилось. Оно превратилось в зелёную реку, и эта миражная река текла, струилась вдоль берегов и игрушечных по своему масштабу строений на них. Она узнавала свои родные места детства и юности, мост… Нэя засмеялась, ей нравилась странная игра! Он стащил платье с её плеча, – Есть выражение, не войти в одну и ту же реку дважды. А я хочу туда войти. В тот самый день, когда ты была в реке…
– Сам же говорил, что тогда я была маленькой ещё. Или ты хочешь, чтобы я напомнила тебе Гелию с картины?
– Нет!
– Я лучше?
Он ей не ответил. Обидевшись его нежеланию отвечать, Нэя стала выдергивать ногу из его руки, но он не отпускал. На чёрном потолке сверкали россыпи голографических звёзд. Мираж неба отражался в миражной реке. Река струилась зеленоватым мерцанием, освещая синее платье Нэи, ставшее серебристым от странного освещения потолка. Смеющееся счастливое лицо тоже казалось миражом. Она видела своё отражение в его восхищённых глазах как в зеркале, и это отражение было прекрасным. Чтобы отомстить ему, она сделала попытку слезть с волшебной поверхности, но Рудольф не дал, останавливая её. Сидеть же было жёстко и холодно.
– Я не хочу тут. Пусти… – она продолжала его отпихивать, вызывая желание нужного ей накала, и сама увлекаясь необычностью предстоящей любви в огромном полутёмном холле, с эхом по далёким углам, на миражной поверхности реки. Она тянула время, думая впоследствии, что могла бы увидеть Икринка, если бы не это затягивание любовной игры? Подобное зрелище, ни для кого не предназначенное, кроме них двоих, – такое обнажение сокровенного было бы невозможно и пережить…
– Впервые я увидел тебя, сидящей на берегу, на брёвнах разобранного старого моста.
– Так ты стоял на большом мосту? Вначале я думала, что там стоит Чапос… ты случайно забрёл на нашу окраину?
– Нет. Я пришёл туда именно к тебе.
– Откуда же знал, что я там живу?
– Видишь эту реку? Это изображение в режиме реального времени. Это не запись, а то, что происходит там сейчас. Ты не поняла? У нас невероятные возможности наблюдать за любым уголком планеты. Везде.
– А где же были твои колоссальные возможности, когда ты не сумел найти меня? У Тон-Ата?
– Да я и не искал. Так, пошарил немного по округе, а потом и забыл о тебе.
– Врёшь! Искал. И не забыл.
– Та цветочная нирвана, к сожалению, нашему обзору недоступна.
– Зачем тебе теперь цветочные плантации?
– Надо. Архипелаг при тех наработках, какие у нас уже есть, скоро будет ликвидирован, не как страна, конечно, но как паутина Обаи.
– Я не видела там никакой паутины.
– Ты и сама в ней сидела. Ты была пленница своего старика. Но вот зачем ты ему была нужна? Даже Эля, которую ты жалеешь, счастливее тебя. В том смысле хотя бы, что у неё остались дети, был муж, и была любовь, пусть и временная. А что было у тебя? Кроме твоих цветных снов? В женской своей жизни ты ещё дитя, ты живёшь жизнью женщины всего два года. Тебе не горько за утраченную впустую юность?
Она поняла, что задела его больное место, вспомнив про цветочные плантации. И он отомстил, кольнув её сейчас. Она обиделась по-настоящему и решила слезть с возвышения, уйти из холла, не дав ему возможности экзотического плавания вместе по миражной реке. – Ты злой!
Рудольф схватил её за подол, потянул к себе, тонкая ткань натянулась.
– Не хочу любить такого злого! Ты постоянно портишь мне платья! Пусти!
Рудольф целовал её ноги, потом каждый палец в отдельности. Ласка была особенной, родной, – Давай представим, что ты согласилась отправиться со мною в тот день на далёкий пляж. Вечереет, а вода особенно тёплая и бархатная, ты это чуешь? Тебе приятно ощущать, как я прикасаюсь к тебе сквозь воду? Будто она тоже одушевлённая…
– Да… – шептала она, тая от ответной нежности.
– Мы с тобой вот тут… – и он перевёл обзор на Дальние Пески. Увеличил изображение. Нэя оказалась сидящей на песке, вокруг неё простиралось во все стороны изображение той местности. Подвижная река казалась по-настоящему глубокой, песок сыпучим и мягким. Но сидела она на плоской поверхности.
– Я научил тебя плавать. Мы устали и присели отдохнуть на песок, – он притянул её к себе. – Чтобы ты мне ответила, если бы я сказал тебе: можно я тебе поласкаю?
– Можно… – прошептала она, погружаясь в игру.
– Ну, нет. Ты бы так не ответила. Ты стала бы ломаться и сказала бы: пошёл прочь от меня!
– Разве бы я смогла?
– Но ведь ты именно так и сказала, когда я предложил поучить тебя плаванию.
– Потому что вокруг были люди. А тут мы одни…
– Хорошо. Можно я прикоснусь к твоей груди?
– Зачем?
– Чтобы слушать твоё сердце…
– Какое же у меня сердце?
– Славное и доброе у тебя сердце. Нежное и чувствительное…
– И ранимое тоже. Ты больше не будешь меня обижать?
Вместо ответа он приник к её груди, сползая губами ниже, – А войти в тебя мне позволительно?
– Прямо здесь?
– Да. Вокруг же никого…
– Ты забыл, что в то время я была нетронутой девушкой? Как же я могу тебе это позволить?
– Позволь лишь прикоснуться губами…
– Мне было бы очень стыдно так поступить…
– Перед кем стыдно?
– Вообще стыдно. А перед кем, не знаю. Тогда я бы точно не позволила тебе такого… А ты смог бы преодолеть мою стыдливость тем, что схватил бы меня в охапку и совершил то, к чему стремишься и теперь?
– В охапку? Через подавление, что ли? Да ты с ума сошла!
– Разве ты так не поступал?
– Да когда?
Она молчала, поняв, что поломала такую нежную и трогательную игру.
– В спальной комнате Гелии ты ведь усыпил меня…
– Чтобы ты не орала и не привлекла внимания того сборища, – ответил он и отодвинулся от неё, – ты же сама хотела, даже требовала близости, а я, понимая всю её несвоевременность, всего лишь пошёл тебе навстречу. И всё равно ты кричала, потому что тебе было больно, а препарат был очень слабой дозировки. Не мог же я полностью отключить тебя, чтобы любить куклу…
– Мог бы и не вспоминать такое… – она возбуждённо зашептала, пытаясь вернуть его в русло игры, из которой он пытался ускользнуть. – Ты был такой большой, и всё было настолько большим, что я боялась… я ведь не сразу смогла привыкнуть к тебе… а теперь всё в тебе кажется мне шедевральным, необыкновенно-восхитительным. Да так и есть… я обожаю тебя, всё в тебе… а его особенно… – в признание, вроде бы, и прозвучавшее с некоторой долей пошловатой непристойности, она вкладывала столько любви и личного творчества, не заморачиваясь поиском подходящих слов, что сама же и пьянела от них, – чтобы ты знал, я каждый раз умираю от блаженства, когда ощущаю его в себе, а оживаю после всего со слезами, что всё закончилось и на этот раз…
– Тут холодно, – сказал он вдруг. – Давай, я тебя провожу домой. Тебе необходим отдых, и ты уже несколько не такая, какой была несколько месяцев назад. Не стоит нам увлекаться прежними безумствами. Ты меня понимаешь? Иначе это может привести к нежелательным последствиям. Разве Франк не предупреждал тебя об этом?
– О чём? – она придвинулась к нему и слегка потёрлась головой о его шею.
– О соблюдении необходимого режима.
– Ты невозможно обидчивый. Помнишь, как в тот день, о котором ты же и напомнил, ты хотел накинуться на Нэиля? Мне стоило немалых усилий, чтобы успокоить его. Он был такой бешеный, когда его задевали… И зачем я сама о нём вспомнила? – Её губы задрожали. Он прижал её к себе, не желая ссориться из-за игры, вышедшей из-под контроля.
– Я закинул бы его на другой берег, на плот к тем тёткам! – и он засмеялся. – Твой брат даже не подозревал на кого хотел посягнуть!
Дела были уже давние, все раны зарубцевались, все глубинные и травмированные пласты закрылись с неизбежностью, и только песок пляжа перекатывался своими виртуальными песчинками под нею, а она не ощущала его движения и вещественности. На кого теперь обижаться? Если в той истории пострадавшими оказались все. В том числе и неверная Гелия, не умевшая выбрать того, кто был ей по-настоящему дорог, и отстранить другого, кого терзала своей же неспособностью такого выбора.
– Почему ты не захотел найти меня после того, как Нэиль тебя прогнал? Почему сразу же забыл обо мне? Ведь ты не узнал меня сразу, когда увидел пару сезонов спустя? Придумал, что я похорошела, и ты не узнал. Не узнал, потому что и в голове не держал. А я все эти тёплые сезоны приходила на тот пляж и ждала тебя… смотрела на мост. Но там стоял только Чапос, да и то иногда… Или ты любил тогда Гелию? Скажи хотя бы теперь, что я лучше, чем она. Всегда была лучше.
– Если бы я понимал это тогда, всё было бы по-другому. И у меня. И у тебя.
– Я лучше?
– Дай мне обещание, что прямо сейчас ты откроешь мне свою тайну. Хотя эта тайна скоро уже не поместится в твоих платьях… – он давал понять, что игра в прошлое завершена. Он очнулся и внезапно остыл, как бы устал, лучезарность глаз сменилась обыденным их выражением. Будто она зашла к нему не ко времени, а он всё ещё продолжает обдумывать то, что она и прервала своим непрошенным приходом. Иногда ведь бывало и такое, пока она не выучилась не соваться к нему тогда, когда он её не зовёт. Это же был совсем не тот Рудольф, который когда-то подходил к ней в этой самой реке, предлагая на свой странный манер искреннюю симпатию со скорейшей перспективой её преображения в любовь… Но та река давно сменила и обновила свои воды, как и песок полностью поменял расположение всех своих песчинок, а иные из них унесло ветром и водой неведомо куда. Так и лесистые заросли по берегам неисчислимое количество раз отцветали и роняли свои соцветия заодно и с листьями. Всё и давно уже было иное. Она положила руки ему на плечи, хотя ясно видела, что сегодня продолжения любви уже не будет. Она и не собиралась настаивать. Когда успокоится, сам позовёт. Не исключено, что так произойдёт уже завтра к ночи. Для изучения его особенностей времени у неё было достаточно. Только и она согласится не сразу. Чтобы у него тоже возникло раскаяние за свою капризную непредсказуемость. Даже если бы он и хотел, он не смог бы, просмотрев всю планету этим своим волшебным подземным оком, на котором она восседала голыми ягодицами, найти ей замену. Она единственная такая, одна на целую планету…
Смеясь, скрывая поднявшуюся из тех самых растревоженных пластов горечь, она ничего так и не сказала ему. Зачем ему её признание в том, что в ней живёт, пусть и не дышит ещё сам по себе, их общий сын? Если и так всё очевидно, а скоро станет очевидно и всем окружающим. Франк сказал ей, что будет мальчик. Рудольф не сможет теперь отказать ей и пойдёт в Храм Надмирного Света. Он же любит, он же не отдаст её на бесчестье…
И вот тогда-то и вошла Икринка. Она не увидела ничего, кроме их дурачества и распахнутого платья, когда Нэе пришлось сползти с возвышения кристалла. Рудольф выключил изображение реки. Поверхность стала ярко-синей, как и платье Нэи.
Стоя за закрытой уже панелью входа, Нэя ощутила запоздалый стыд и смятение, будто её уличили в низком постыдном деянии, которому нет прощения. Стены были звуконепроницаемы. Было тихо, но Нэя ясно понимала, что там за закрытой стеной бушует гроза. Никогда она не видела столько ненависти в глазах своей тихой и задумчивой подруги, хотя и отдалившейся от неё, но остающейся ей дорогой и близкой. И кому предназначена была ненависть? Одному Рудольфу или ей тоже?
Если ненависть сильнее жалости – приходит беда
Икринка видела только спину Нэи, закрытую платьем, но не надо было быть провидцем, чтобы понять, чем она была развернута к папеньке, каким своим оголённым непотребством. И этот полуседой дядя нахально и любовно сиял глазами и сжимал её узкую ступню, чуть ли не целуя. Нэя хохотала как умалишенная, отражаясь в зеркальной поверхности супер -делового совещательного рабочего стола, в котором и были запрятаны их чудо – техно – совершенства, мозг их подземелья. А она сидела голой задницей на драгоценной начинке управляющего центра подземного города! Даже Икринка не могла себе представить, что её учительница хороших манер на такое способна. Они могли бы их с Антоном многому научить, этот солидный дядя со своей голозадой и отнюдь не юной тётей. А ведь она и учила: «Позволяй любимому всё»…
Вот она тут и позволяла сама. Икринку словно толкнуло в грудь как тогда в детстве, столь чудовищной показалась ей эта сцена, хотя до эпизода из детства она и не дотягивала.
Он весь в её глазах был пропитан каким-то непотребством, и ненависть к нему, избыточная неизбывная окутала заодно и некогда любимую Нэю, которой она поверяла столько интимных тайн. Которая учила её своей диковинной науке жизни, но прощать ей её личного счастья Икринка не могла. И дело было не в Нэе, а в суровом и всеобщем тут отце, отнявшем счастье у того же Олега, но всё позволяющим себе. И дедушка рассказывал ей, как он карал её мать именно за якобы свойственную ей и врождённую порочность, за то, что она своим прекрасным существом вызывала у него, и не только у него, страсть вечно неутолимую. Но вот же позволяет он Нэе, пёстрой как птица джунглей, любое непотребство, ни в чём её не виня, а осыпая дарами и добротой, нежностью, которую и не думает ни от кого скрывать. Почему же с матерью её было не так? И она задыхалась от желания расколоть этот кристалл, осквернённый их играми, отражающий Нэю. Будто разбив отражение, она смогла бы уничтожить его, отца. Навсегда. Как звездолёт, в котором прилетел Антон, обещанный ей матерью, убил мать, ничего не испытавшую в своей короткой жизни, кроме игр в счастье в своём театре и гнёта небожителя.
Но искусственный чудо – интеллект нельзя было разбить ничем, его невозможно было так просто уничтожить, как легко это было совершить с человеческой жизнью.
Ещё недавно она спрашивала у него, – Почему ты не захотел, чтобы в детстве я жила тут?
– Где? На военной базе? Мама же не хотела жить здесь. Ей было скучно под землёй и в горах.
– Но сразу после её смерти?
– Но как бы ты тут жила? Здесь одни роботы и солдаты. Это же казарма, производство, лаборатории, но не дом для маленькой девочки. Ты должна была воспитываться среди людей на поверхности. Потом твои дедушка, бабушка, они образованные люди, много всего знают, а тут кто? Одни молодые штрафники и редкие исследователи, занятые только своим профессиональным делом. Чему бы они тебя научили?
– Объяснить можно всё. Сначала не было желания видеть меня рядом. Потом, да, я уже не хотела сама.
– Неправда. Я всегда хотел, чтобы ты была рядом.
– Не хотел. Дедушка прочитал в вашей книге, (Франк ему давал такую пластиночку, там можно было найти любую земную книгу), что желание это тысяча способов, а отсутствие желания – тысяча препятствий. Вот Артур, он немного и старше меня, а как управляет вашими тут штуковинами. Я бы тоже умела.
– Он жил и воспитывался в земном социуме. Здесь он только проходит службу. Здесь Армия, хотя и Космическая. Здесь нельзя было жить ребёнку без женщины.
– Почему ты не женился во второй раз?
– Да на ком тут?
– А Нэя? Почему не мог найти её раньше?
Он отводил от неё глаза, прятал их.
– Стыдишься, что с нею?
– Нет.
– Бабушка говорит, если бы у вас тут были женщины, у вас был бы рай. Были бы дети, цветы и радость. Как на поверхности.
– Нам нельзя. Тут не рай, а служба.
– А когда у Нэи будет ребёнок? Ты тоже выкинешь её в какую-нибудь провинциальную глушь?
– Не будет у неё никаких детей. И закончим это обсуждение.
– Да ты слепой что ли? Все замечают, кроме тебя! Она же растолстела вся. Поверхностный птичник кудахчет об этом давно уже.
– Я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь!
– Потому что тебе стыдно?
– Нет. Но я не так воспитан.
– Зато другие делают это за тебя. Обсуждают и тебя и Нэю. И нас с Антоном. Расскажи, как вы жили с мамой? Почему так плохо?
– Тебе же дед всё рассказал.
– Но это однобоко. Его пристрастный взгляд не может быть правдой. Всей правдой. Ты расскажи.
– Она разлюбила меня. А я не сумел её отпустить. И она возненавидела меня. Издевалась надо мною. Оскорбляла при младших коллегах – моих солдатах, прочих посторонних людях и даже дралась. Я очень долго терпел её выходки. А потом распустил руки и уже не мог воздействовать иначе. Она не слушалась. А жить ей одной было уже опасно, она катилась в пропасть. Я вытаскивал её из притонов, в которые она повадилась бродить. Конечно, она боялась себе многое позволить, но порок притягивал её даже просто зрительно. Стала пить наркотическое пойло, так называемую «Мать Воду», спускала на неё все средства, которые я был в состоянии ей давать, а я, ты знаешь, мало соответствую уровню их социальных паразитов с их неограниченным богатством. Так она стала шантажировать меня, что найдёт такого дядю, готового поделиться своими благами с нею. Она настолько стремительно деградировала, практически перестала нормально есть, уже отодвинула куда подальше свою профессиональную деятельность – свой театр. Болталась по злачным местам в стремлении окончательного саморазрушения. Только камни и платья по-прежнему были дороги ей. Вокруг неё завился хоровод проституток и ворья, они тащили у неё всё, она сама валялась в отключенном состоянии от «Матери Воды». Хороша мать! А в её доме устраивали оргии. Её не трогали лишь потому, что боялись меня, а так? Где бы ты в таких-то условиях нашла себе место для жизни, как ты меня упрекала? Конечно, она не всегда была такой. Только в последний уже год перед гибелью, перед тем трагическим падением «Финиста». Как-то я приехал к ней, а она совершенно голая валялась в гостевой комнате, погружённая в наркотические видения… Она страдала нарциссизмом, считала, что всем за счастье увидеть её телесное совершенство. Это единственное, что грело её ледяное сердце. Восторг скотов…
В процессе рассказа он забыл о юной и чистой дочери. Глаза упёрлись в образы, ожившие в нём, налились бешенством. Гримаса отвращения подняла верхнюю губу, обнажив зубы. Он замер не от того, что споткнулся о непотребную прошлую панораму – картину, а от ожившего, взметнувшегося из глубинных недр протуберанца гнева на погибшую и не прощённую жену – её мать. И это столько лет спустя! Он сжал руку в кулак и елозил им по отражающей и блестящей поверхности суперкомпьютера, еле сдерживая в себе желание, ударить по нему. И тут её опять охватила та самая странная способность входа в тайное информационное пространство чужой души без всякой зримой и открытой двери. Она и слухом, и зрением воспринимала, хотя и несколько смутное завихрение образов его прошлого. Он молчал, а при этом он как бы и говорил ей о том, о чём не сказал бы никогда и никому даже под пытками.
– Дверь в жильё вообще настежь, а в столовой комнате какая-то рыжая как пламя девка в прозрачном шарфике на бёдрах, но с голыми и надутыми как две полусферы грудями, крутится как смерч на столе среди посуды и объедков перед пьяной ордой. А орда эта – твоей матери творческие в кавычках коллеги. И те, разумеется, кто на них налипали гроздьями. У меня была одна женщина на оплате, как бы домработница Гелии, но мелкая чиновница из Департамента охраны столичного порядка. Она следила, чтобы мать не обворовывали, не покалечили при случае. Так ведь и она имела свои дни отдыха. Вот Гелия и пользовалась редким случаем, притаскивала весь ночной клуб непотребным гудящим роем к себе на продолжение пиршества. Когда я вошёл, они все разбежались по её излишним комнатам, как тараканы по щелям. А рыжая дикая метла, перебирая своими ножками, спрыгнула со стола, подошла ко мне и прижалась. Соблазняла своим выменем, тёрлась о мою одежду и облизывала свои красные губы. Но меня она при этом не видела! Таращилась как сквозь стекло стеклянными же глазищами! «Я твоя рыбка. Я задыхаюсь без глубокой и чистой воды нашей любви. Возьми меня назад в свой круглый и прекрасный павильон»! Не знаю, отчего она застряла в моей памяти. Наверное, от того, что тогда была моя предпоследняя встреча с Гелией. Последняя же встреча… Да ладно! Поэтому весь кошмар того вечера остался во мне в мельчайших и терзающих меня до сего дня подробностях. Все они там были под наркотическим воздействием – в измерениях ужасающего инфернального бреда! Кто-то мяукал, кто-то где-то визгливо рыдал в отдалении в бестолковых и пустых комнатах её ненужно – огромной квартиры. Я притащил плед из спальни и завернул одурманенную девку, совсем ещё юную, завязал в узел как кошку. После чего пихнул в соседнюю комнату к остальной затаившейся сволоте. Связался с Чапосом и потребовал, чтобы он забирал в свой продажный притон бесхозный товар, который тут пляшет по грязным мискам в надежде найти себе покупателя. Да тут одна нищета, и в прямом, и в фигуральном смысле, маскирующаяся под «праздник жизни». Я сделал Гелии необходимую отрезвляющую инъекцию, настолько я уже привык к подобным представлениям. Что я мог ещё сделать в такой ситуации? Я уже давно не прикасался к ней и пальцем. Прибыл Чапос со своей страшной стаей квадратно-челюстных соратников, чтобы выбросить из жилища всех. Гости Гелии, кто не успел умчаться сразу, заверещали и заметались по углам, удирая полуодетыми и с прискоком от страха. Бандитский мир Паралеи – это ужас, и они знали, что им никто не поможет, если что. Гелия пришла в себя и встала на защиту рыжей проститутки. Раскрыла свои лилейные ручки, загородила её от тех, кто, достанься она им, растерзали бы её в своем уголовном притоне в клочья. Бандиты сочли, что танцорка им награда за наведение порядка. Вот с таким отребьем мне и приходилось иметь там дело. Но у меня не было, и не могло быть, на поверхности частной военизированной охраны, как у холёных властителей Паралеи. А защищать Гелию мне было необходимо. Она же никогда этого не понимала, она жила на какой-то собственной Паралее, не имеющей с настоящей ничего общего. Я её спасательный круг, благодаря которому она и держалась на поверхности того чавкающего болота, был в её представлении худшим из врагов. Гелия стала меня уверять, что тут был необходимый бедной талантливой девушке творческий просмотр для зачисления в театральную школу. Что у грудастой скромницы нет денег на обучение, а она чиста как родник, доверчива, заблудилась в столичных дебрях, её уже подло используют, могут погубить окончательно. Вот и здесь кто-то из присутствующих подло подпоил её, а она, по сути, ещё ничего не понимает в окружающей жизни, и точно такой же была она сама некогда, но ей посчастливилось сразу найти прекрасных и возвышенных душой людей. Я тогда же и дал деньги, Гелия заверила, что внесёт оплату, и девушка будет учиться, а не танцевать по столам. Я до сих пор испытываю непонятное чувство вины не только перед твоей матерью, но и перед той, которую я завязал в плед на два узла, чтобы не брыкалась, хотя ей-то я что сделал? Какой урон причинил? Но это же мир лицедейства!
– Ты думаешь, я был настолько туп, чтобы всему верить? Но делал вид, что верю. Поддерживал её игру в жалкое меценатство. Я страшно жалел Гелию, понимая её обреченность, – сказал он вслух. – Падение «Финиста» только приблизило неизбежное…