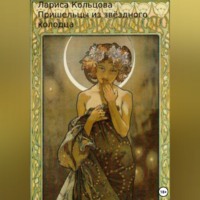Полная версия
Миражи и маски Паралеи

Лариса Кольцова
Миражи и маски Паралеи
Сумерки второй жизни Нэи
Откровения зануды-отцаУтреннюю радость совместного пробуждения сменила неотступная тревога. Она охватывала сразу же, как только Икринка полностью входила в обладание своим телом после ночного отрешения от него. Её наблюдал доктор Франк, спокойный, добрый, всегда свежий. От него словно бы веяло прохладным горным озером, чьё излучение он приносил на своей коже в медицинский отсек, так как по утрам он купался и делал это в любую погоду, исключая сезон дождей, когда всё раскисало. Когда бы она ни пришла, а приходила она относительно редко, очевидно немолодой доктор сиял юношеским оптимизмом и утренней бодростью. Её привозил сюда Антон на скоростной подземной дороге. Франк помещал её в прозрачную капсулу, и она спала, а он включал нужную программу исследования, после чего обсуждал полученные результаты с Антоном. Едва прозрачная крышка открывалась, она просыпалась, и это было всё. Иногда Франк показывал записи в голографическом масштабе, где она видела, как шевелится и живет внутри неё не рождённое дитя. Антон смеялся и говорил, что он чудесный, но она, видя головастого и полупрозрачного эмбриона, ничего не чувствовала, кроме нежелания его видеть и удручающей тоски.
Однажды Антон привёз её к вечеру. На сей раз Франк удивил Икринку своей не то печалью, не то усталостью, так не похож он был на утреннего бодрячка – старичка. Хотя и стариком он не казался, но так называли его все на базе, а был он крепок и гладок лицом, не считая густой седой шевелюры. Антон говорил ей, что он всех тут старше, и лет ему много, очень много, столько, сколько люди на Паралее не живут.
– Вас кто-то обидел? – спросила Икринка, наблюдая не типичное для него опущение уголков всегда улыбчивого и не старого, а сочного рта.
– Обидел? – переспросил он, – можно и так сказать. Судьба, наверное.
– А что она вам сделала?
– Да жизнь мою обрушила, всё, что её наполняло, в прах развеяла. И это не метафора, а буквально. Бывает, так накатит – плачу, когда никто не видит. Да ведь ничего не происходит просто так, и сам я несу вину за всё, за собственную неправедность.
– Неправедность? Это вы-то неправедны?
– Да зачем тебе и знать об этом, душа ты моя светлая. Только знай, что всё, что терпит человек, он заслужил, поскольку сам он творец своих несчастий, да не каждый хочет это признать.
Икринке стало его жалко. Она знала историю доктора от Антона.
– Разве мужчины плачут? – спросила она, – Стыдно.
– А я и не мужчина, я старик. А старику можно и поплакать. Как и женщине.
– Я никогда не плачу, – сказала она, – и не плакала даже в детстве. Только, когда мамы не стало. Но давно.
Доктор поставил перед ней блюдо с ягодами.
– Выращиваю специально для моих любимых девочек, в горах, – сказал он.
– Девочек? – переспросила она, – Где же тут девочки?
– Ты и Нэя.
– А, – презрительно бросила она и отодвинула ягоды. – Нэя, да. Когда бы я ни пришла к ней, она ест. Толстая стала. Она и вообще-то не была стройной, а теперь подурнела, – в словах Икринки была злость на Нэю, и доктор это уловил. Но ничего не сказал. Он отвлекся от неё, переключился на Антона, они принялись обсуждать мало ей понятную тему о развитии ребенка. И тогда она решила найти отца.
Она направилась в сторону его жилого отсека. Отсек этот находился рядом с совещательным холлом. Именно так его называли в подземном городе – «совещательный холл». Он имел впечатляющие размеры, там стоял аквамариновый стол – кристалл похожий на бассейн, в котором были спрятаны их хитрые компьютеры и прочая связь с внешним миром. Там и был их штаб. Последнее время Икринка часто приходила к отцу в штаб. Она любила там бывать. Забавляло совсем по-детски эхо, отражающееся от пустынных углов и полированных стен огромного помещения. Было здорово садиться в голубое и прозрачное кресло и глядеть в зеркальную синюю поверхность стола, похожего на подиум, а он у них назывался ЦБС – центральный блок связи, в процессе его удивительной работы. Следить за непрерывным мерцанием знаков, цифр, линий и объемных фигур непонятно чего, и даже удивительные картины возникали в многомерном экране. Это была очень удобная возможность отвлекаться от того, что говорил отец, сохраняя серьёзное и внимательное лицо. Он убеждал её заняться своим развитием, чему и способствует учёба, даже если кажется ненужной, она не дает мозгам спать, пребывать в дреме.
– Иначе, – говорил он, – ты будешь очень скоро не интересна Антону. Если бы ты попала на Землю, ты сразу обнаружила бы своё убожество в развитии по сравнению с девушками Земли, своими ровесницами. Ты редкая красавица, – признавал он. – Ты, как и мать, уникальное порождение этой планеты, мало изученной, но ты неизбежно будешь выглядеть недоразвитой, что естественно. Человек, отказываясь от непрерывного развития, обречён на обратный процесс вспять, на деградацию, потому что всё движется, хотя и в противоположных часто направлениях. А что ты? Ты тёмный дикарь. Твоя мать тоже не хотела ничего, кроме как извиваться своим, пусть и бесподобным, но присоединенным к голове без содержания, телом. В природной красоте не было ни капли её заслуги личной. Выставлялась перед озабоченным сексуально стадом холёных животных… – И он замолчал. Но вскоре продолжил через определённое усилие, – Кромешное падение такой уникальной женщины…
– В чем же и уникальность, если она была непроходимо глупа?
– Она не была глупа, но выглядела таковой, играя в игры дураков.
– А ты, – спросила Икринка не без издёвки над ним, – скучаешь по её красоте? У неё одна грудь чего стоила! Я же видела её изображение. Красивых лиц много, а вот фигурка у неё была – идеал ваш земной явно до него не дотягивает. Не нашёл ей замену?
Он долго молчал, понимая её желание поиздеваться, но, все же, сделал вид, что не въехал в её отношение к себе.
– Да, – ответил он серьезно и спокойно, – очень скучаю по ней. И знаю, что такой больше не встречу нигде и никогда. Не о груди я, конечно, а о маме твоей.
– Конечно, и я не о груди. Да к тому же Нэя такая… все пялятся. Тебе не стыдно иметь вместо утончённой мамы, которую ты назвал глупой, такую женщину, которая выставляет всем на показ свое молочное вымя?
– Это пошло! Не шути так. – Он не изменял своему спокойствию, – мы говорим о тебе. К красоте привыкаешь, а если перестаешь уважать ту, кому она принадлежит, то и красота уже ничто.
– Я понимаю. К красивой женщине у всех масса претензий. Хороша? О да. Но, видите ли, она хозяйка никакая, она любит смеяться по пустякам, она, ах ужас, легкомысленная особа! А девушке всего-то восемнадцать! Дедушка говорит, что они забыли те времена, когда люди устраивали яркие праздники, где славили весёлых и гармоничных Богов, которых любили и считали себе родными, ждали их, поскольку они обещали им будущую встречу. Люди наряжались, усыпали центральные площади цветами – единственная жертва, которую принимали их добрые Боги, цветы и любовь открытого сердца – любовь к окружающему миру и к другим людям. У каждой семьи была собственная небольшая цветочная плантация, и часть выращенных цветов необходимо было пожертвовать Богам. Паралея утопала в цветах, дома, парки, улицы. На таких многодневных праздниках люди искали себе пару и влюблялись, веселились и раскрепощались, устраивали совместные пиры. Дедушке удалось прочесть об этом в древних книгах, они где-то хранятся, но скрыты от большинства людей. Старые Боги отринуты, поскольку они были Богами справедливости, дружбы и добра. А какие праздники есть сейчас? Какая любовь и открытые сердца? Как красивая девушка, хуже её и нет. А вот если она никакая и в переносицу себе глядит, и говорит одно слово за целый день, то да! Все достоинства перечислят. И хозяйственна она и умна, лишнего слова, не подумав, не скажет, а глупость очевидную в простоту характера обернут. А красивой девушке и ум в вину поставят, гордячка, скажут, не по месту своему. Знаю я всё это. Только думаю, что если Надмирный Свет дал красоту кому внешнюю, то и душа у такого человека светлая. А тёмная душа лишит света любой лик.
– Напевы Хагора? – спросил он, – он хорошо напитал тебя своей мудростью. Только ум его – ум отвлечённый.
– Может, и отвлечённый. Только он меня воспитывал со своим отвлечённым умом, кормил, стирал, покупал одежду, в школу провожал, играл со мною. В то время как другие, во всем совершенные, были вроде и не при делах.
И все его речи были столь же безрадостны ей, но она упорно продолжала к нему ходить, чтобы всё выслушивать, не делая при этом ни малейшего порыва к великому преобразованию своей якобы тёмной души. Словно ей было важно напитаться отвращением к миру через нелюбимого зануду отца, потому что Антон препятствовал в том смысле, что через него она этот мир отринуть не могла. А напротив. Он не отпускал её, даже когда молчал. Антон и был центром мира, его смыслом. А отец был тем, что её выталкивало и подталкивало к Хагору. Хагор ждал её решения. Как только она всё решит, он вызовет Зелёный Луч.
К отцу нельзя было прийти без его вызова. Но у Икринки был универсальный код доступа во все помещения, который он ей дал. На подземной базе не все входы и двери запирались, но все знали, куда можно, а куда и когда нельзя входить. У них были очень сложные внутренние взаимоотношения, ей непонятные и малоинтересные. Внешне казалось, что всё просто, но очень сложно в действительности. Поэтому он и дал ей для удобства маленькую пластину, похожую на золотую, может, и золотую. Она и открывала ею входы на поверхности в сам «ЗОНТ» – «Зеркальный Лабиринт» и те дверные панели, которые были на верхних уровнях помещений «ЗОНТа», обычно закрытые, во избежание проникновений посторонних лиц. Но она никуда не лезла без необходимости, только к отцу. Когда он был у себя, то на его панели горел зелёный треугольник, и она входила. Он её кормил и нудно зудел в уши свои ненужные назидания и свою ей ненужную, чуждую философию жизни. Она ничуть его не уважала и не боялась, в отличие от его почтительных подчинённых.
Лучше бы она не приходила
И в этот вечер она пришла как обычно. Она увидела, что вход в его жилой отсек помечен синим значком, то есть там никого, а на панели в ЦБС светился тот самый зелёный треугольник. И там мог находиться только отец. Если шло совещание или их сбор, значок становился красным, и тогда она не входила, чтобы не мешать их скучным и непонятным совещаниям. Она неплохо изучила язык, на котором они говорили в подземных уровнях, но в своём совещательном холле они употребляли язык, насыщенный неизвестными понятиями и отличный от языка бытового общения. Они собирались все за этим огромным столом. Он сверкал и казался налитым водой, которая на самом деле являлась каменной. Нашпигованный хитроумными и невероятными особенностями, кристалл мог превращаться весь целиком в нужный им сектор планеты, любой ландшафт, обзор спутников Трола, и даже открывать космические бездны. Он имел сложное внутреннее пространство в несколько уровней, и в каждом что-то было. Но в спящем своём состоянии он напоминал некий подиум, подобный тому в «Мечте» у Нэи, где дефилировали её задаваки на тонких ногах и плоскогрудые. Впрочем, этот их недостаток с лихвой компенсировала грудастая хозяйка. О Нэе она думала с неприязнью. Её связь с отцом ни для кого не была уже тайной, а со стороны Нэи едва ли не демонстративной. Так происходило вовсе не потому, что она такой вот предосудительной связью гордилась перед местными, которых всё же сторонилась, а как бы считала себя избранницей высших существ и не брала в расчёт сплетни и осуждение окружающих. Но понятно, знала о наличии так называемых «высших существ» лишь Икринка, не считающая их таковыми. А прочие обитатели ЦЭССЭИ и знать не знали о пришельцах, скрытых в глубине планеты. На поверхности они от прочих людей ничем не отличались.
В жилом отсеке отца не имелось ничего интересного, кроме обширной постели с пушистым пледом, точно таким же как у них с Антоном, похожим на пушистое крыло гигантской птицы, – лёгкий и невесомый, но очень тёплый. Ещё на стенах висели забавные картинки, с одной стороны однообразные при первом взгляде на них, но на самом деле с разными изображениями всевозможных фантастически хорошеньких и пёстро одетых девушек. Всякая из них напоминала Нэю, и кто был художник, повёрнутый на её любовании, Икринка не знала. Не спрашивала даже, умышленно их игнорируя при отце. Но одна картина, та что украшала спальную комнату, вызывала даже не восхищение, а то, что повергало её в состояние отрешённости от реальности. Ради неё Икринка и ходила сюда. А так – хитроумная сантехника, массажный восстанавливающий душ, маленький домашний робот, и прочая скучная техническая дребедень.
Она села на постель и уловила запах своих духов, подаренных Нэей, но сама Икринка их давно забросила. Ничего не подумав даже на этот счёт, она уставилась на картину, полностью отвлекающей её от того, что было вокруг. Там была изображена мама. Но она никогда не видела её такой счастливой. Мама сидела в лодке, вокруг неуловимая по цвету речная вода, каковой она и бывает в действительности, нарисованная прозрачными мазками. Даже не верилось, что это краски, а не настоящая вода. От неё шла прохлада как от воды подлинной. И из этой прохладной и прозрачной глубины поднимались на поверхность, раздвигая водную упругую плоть, мерцающие белые бутоны, розовеющие там, где они были открыты. Платье мамы струилось как вода, а тело просвечивало, как и сама Икринка в том платье, которое приводило в трепет Антона, но сейчас заброшенное давно. С выпирающим животом выставляться? Невозможно. Грудь мамы, абсолютно нагая, бесстыдно сияла в глаза дочери, но с другой стороны, это ж была картина, а не живая мама. Поэтому она сосредотачивалась на мамином лице. Икринка не любила грудастых женщин и считала такой вот избыток женской природы отталкивающим. Свою же грудь она терпела просто потому, что такова была данность, страдая раньше, когда она начинала расти в подростковом уже возрасте. Но если Антону нравилось, пусть радуется. Лично она обошлась бы без неё, но природе не прикажешь, с ней не закапризничаешь как с дедушкой или бабушкой.
– Зачем это уродство вырастает у девушек? – спрашивала она у бабушки.
– Но ведь это красиво, – отвечала бабушка.
– Да ты шутишь! Это же насмешка твоей Матери Воды, про которую ты мне рассказывала, что она дала своим дочерям себе подобную плоть, полупрозрачную, чистую и способную утолять жажду. Я её раньше любила, а теперь, когда выросла, что она надо мною натворила? Стыдно с этим жить!
И старалась носить туники просторнее, чтобы не облегали в районе груди. И когда впервые увидела Нэю, выставляющую грудь через совсем прозрачные вставочки и кружевные сеточки и то, как ей подражали её девчонки, тоже выставляющие свои плоские груди с острыми сосками, Икринка была поражена стыдом за них, но им-то хоть бы что. Они будто и не замечали взглядов тех мужских особей, которые стремились к ним туда мысленно залезть целиком.
Она сказала себе, – Хм! – подражая отцу, и подумала, вот почему он не забывает о маме. Кто был творцом картины, она не знала и никогда не спрашивала у отца. Почему-то не хотелось и знать. Хотя разгадка лежала на поверхности, вернее, она была в самой маме, в её позе, в её счастье, которого она никогда не проявляла рядом с отцом.
База землян являлась скучнейшим местом в её глазах. Тут сновали одинаково одетые люди с неинтересной ей деятельностью, малопонятным языком, насыщенным техническими терминами, и глубокого смысла их языка ей совсем не хотелось постичь, как ни переживал по этому поводу папочка. Их премудрость вгоняла её в сон. Достаточно и тех слов, которыми она ловко управлялась в процессе общения с ними всеми. Любовные слова, выученные с Антоном, использовались только для домашнего пользования. Она с усмешкой вспоминала свои девические представления о том, насколько волшебным казался ей скрытый мир с прекрасными землянами и их тайнами. А сейчас они мало интересовали её, как и их тайны.
Лучшими из всех, кто и жили в подземном городе, были Антон и Артур. Ещё, пожалуй, Олег. Если бы не приступы его угрюмости. Но последнее время насупленное лицо и поведенческая отстранённость стала скорее его нормой, он даже Икринке перестал улыбаться. Сама же она всё чаще погружалась в безразличие ко всему, даже к Антону. Франк пичкал её какими-то шариками. Зачем? Она не слушала его объяснений. Надо ей и ребёнку. И всё. А все его лекции пропускала сквозь себя как сквозь пустоту.
– Всё не так, – думала она любимой присказкой дедушки, – всё не то, что я думала. – Живот приводил её в отчаяние. И всё чаще она отпихивала Антона почти с ненавистью. Он был во всём виноват, и эта любовь, – лучше бы её не было! Но он смиренно нёс крест своей любви к ней и никогда не обижал, периодически делая попытки любить и ласкать её, как и прежде. Иногда она позволяла, а иногда и нет, даже видя, что он страдает от невнимания. Нэя внушала ей, что она не имеет права лишать его любви даже сейчас, объясняя, что это нужно и ребёнку тоже. Он питается любовью родителей, уверяла её вечная дурочка. Но Икринке, поскольку её одолевали тягостные раздумья, нравилось, что и Антону тоже плохо.
– Я не хочу ребёнка, – капризничала она, чем приводила его в отчаяние. Даже её красота как бы размылась в ней.
– Это от того, – говорила Нэя, – что ты отдаёшь свою красоту ребёнку. А когда он родится, красота к тебе вернётся и лишь удвоится.
Икринке было удивительно, почему Антон не перестал любить её и желать. И опять Нэя – наставница говорила ей:
– Ты счастливая, и он любит тебя по-настоящему. А если бы любил для себя, то отношение было бы иным.
Несмотря на брюзжание отца, она чувствовала, что это продиктовано его тревогой за неё, что не было ей привычно. Ведь ей казалось, что он никогда не любил её. И она в первое время своей жизни здесь не встречала с его стороны ничего, кроме его вечной отстранённости и некой непонятной печали при взгляде на неё.
Войдя в холл, благодаря своему золотому коду доступа, она, пока дверь бесшумно не вошла в стену, первый миг не сразу поняла, что она увидела. На синей поверхности стола в синем платье сидела Нэя, и ноги её были открыты до самых бёдер. Платье было задрано, а папенька массировал её узкие ступни и смеялся столь непривычно для Икринки, как мальчик, радуясь своей дурочке, как никогда не радовался ей, своей дочери, или её матери, насколько она помнила. Хотя помнила она немногое, но абсолютно всё и в деталях. В смехе было нечто несообразное с ним и нелепое для неё, привычной к совсем другому его облику и поведению.
Нэя была похожа на фею, сидящую на поверхности воды, не могущую утонуть из-за своей лёгкости. Но Нэя-то лёгкой не была. Чего стоила её мясистая грудь, которую она вечно выпячивала и открывала своими декольте. И все туда старались заглянуть. Как неловко было Икринке стоять около Нэи, если рядом находился и Антон, когда Нэя их встречала в лесопарке и лезла общаться, бросалась к ним как к родным. Часто и таскалась за ними по дорожкам, не желая гулять одна. Она неумолчно болтала, смеялась и привлекала всегда внимание других своей пестротой, своим показным весельем, своими камнями, которые выставляла всем на глаза, чтобы все видели, кто она и какая она, нарядная, забалованная щедростью и любовью. Ей уступали дорогу, смотрели вслед, она разгоралась румянцем, возбуждалась нездоровым оживлением. В её браваде было что-то и наигранное, болезненное даже, но Икринка её нисколько не жалела. За что бы?
Первое время она не понимала, почему Нэя не прячет свою грудь, как делали женщины в их провинции, в складках туники, в излишнем объёме одеяния. Но здесь никто не носил туник, а одежда была облегающей у всех, здесь никто не страдал комплексами, даже толстухи или нескладные сами по себе женщины и девушки. Если земляне были безупречны все, своей физической выправкой и ростом, о местных такого сказать было нельзя. Но здешние люди не считали себя такими же, как те, кто жили в провинции, и даже не такими, кто жили в столице. Они вели себя уверенно, и на лицах их была будто печать избранности, что они причастны к миру совершенства. Так что Нэя на их фоне, действительно, имела все права выставляться. Настолько она была всех лучше. Если объективно. А у Икринки как раз и не было объективности отношения к бывшей подруге.
Когда река течёт вспять…
– Ты сидела у реки с книжкой на коленях. На тебе было алое платье. О ком ты мечтала? Ведь ты всегда была мечтательница. Не о том ли, у кого шрам на лице? Сознайся, что он был предметом твоих мечтаний?
Нэя удивлённо заглядывала ему в глаза, стараясь понять, шутит он или нет?
– У него не было шрама тогда. Его за красоту и взяли в театральную школу. Его любили многие девушки, а я была совсем глупой, маленькой, как ты и говорил. Я ничего ещё не понимала. Алое платье я сшила сама. Из дорогого маминого платья перешила. А все смеялись над моим платьем, говорили, зачем ты такое надела? Я сделала открытый вырез, – плечи, руки были видны. На рабочей окраине так никто не одевался. И ткань была воздушная, на чехле. Одна тётка мне кричала: «Мало бабка тебя бьёт! Привлечёшь к себе внимание кого не надо»! А я ей: «Бабушка никогда меня не бьёт»! Правда, бабушка таскала меня за волосы за проступки, и я обычно сильно визжала. Вот соседи и думали, что она меня бьёт.
– За волосы? – спросил он, – Добрый звездочёт Ласкира тебя обижала?
– Я не слушалась. Своевольничала.
Он погладил её по волосам, будто бы только что она терпела бабушкину взбучку. – Мне кажется, что ты была ангельским ребёнком. Как она могла?
– Когда мы резко обеднели, она стала нервной, но всегда жалела, плакала потом.
– А та, в кудряшках, что потом к тебе подсела, Эля? Я её помню ещё с тех времен, когда она воровала пирожные в ресторане, набивая ими сумочку. Я тогда подумал, ведь пирожные дешевле испорченной сумочки.
– Сумочку подарила ей Ифиса. Эля бедствовала, ей не хватало денег на изысканные сладости. Да и потом. У неё была несчастливая жизнь в дальнейшем. Представь, прежде чем она привыкла к тому мутанту, что пришлось ей перетерпеть! Она попала к Чапосу из рук какого-то сектанта. И за своё спасение, за последующее ласковое обращение она и полюбила Чапоса. Она никогда не рассказывает о своём прошлом. Слишком страшно, я думаю. Сейчас её все осуждают, но она добра и не глупа. Только плохо воспитана, конечно. Она пришла недавно вся заплаканная: «Нэя, я полюбила, но зря! Он сказал, что скоро покинет ЦЭССЭИ, но меня взять с собой не может. И если честно, не хочет. Я ему нужна только как болеутоляющее средство от прошлого, а там, на Родине, его вылечат от прошлого». Она спросила у него, где твоя Родина? И он указал на небо. Она восприняла это как глумление над собой. Но ведь он сказал ей правду. Ты тоже никогда не жалеешь меня. Иногда ложь – милость, а правда – жестокость.
– Я не мог забыть твои босые ножки, настолько красивые… Ты пребывала в той самой фазе, когда девочка-подросток вот-вот станет взрослой девушкой. Мне было очевидно, я увидел нереальное чудо. Ты думала, что тебя никто не видит, задирала подол и обмахивалась им от духоты. Я ждал, что будет, когда ты поднимешь платьице повыше? Думал, что там какие-нибудь кружева, но там… – и он задрал её синий подол, – Ты ведь не могла предположить, что кто-то видит тебя, а разрешающее усиление оптики такое, что я мог бы рассмотреть даже волоски на твоей коже. Увидев подобное девственное сияние, я даже забыл, где я и чем занят… Настолько боялся, что кто-то сумеет меня опередить, что сразу же отправился туда… – Рудольф прижался губами к её ступням. Нэя, смеясь, пыталась высвободить ногу. Ей стало неловко от его избыточной искренности. Отсутствие нижнего белья в те времена, на что и намекал Рудольф, и что его умиляло, было постыдно ей и теперь. Они экономили на всем, и бабушка уверяла её, что нечего носить белье в жару, его надо беречь для прохладных дней, она ещё маленькая, и никто не увидит, что под платьем нет ничего. Впоследствии она научилась шить себе всё, используя любой лоскуток.
– Жара ужасная стояла… – сказала она в своё оправдание, что не было правдой. Бедность всегда пытались скрыть, зачастую безуспешно. Бедность никого не объединяла, за бедность презирали, её стыдились. И Нэя стыдилась бедности до сих пор, даже прошлой. Она знала, что Реги-Мон в те времена искал себе богатую невесту, и на намёки соседей на красоту Нэи он как-то и сказал одному приятелю: «С красотой спишь лишь одну, другую ночь, потом к ней быстро привыкаешь, а если голодный, то перестаёшь и замечать, а с деньгами живёшь всю жизнь тепло и удобно». И даже умный Нэиль не раз с презрением говорил о девушках бедных кварталов как о потрясающем убожестве, а что он имел в виду при этом, не пояснял. Она была убеждена, что за бедность человека презирают всегда.