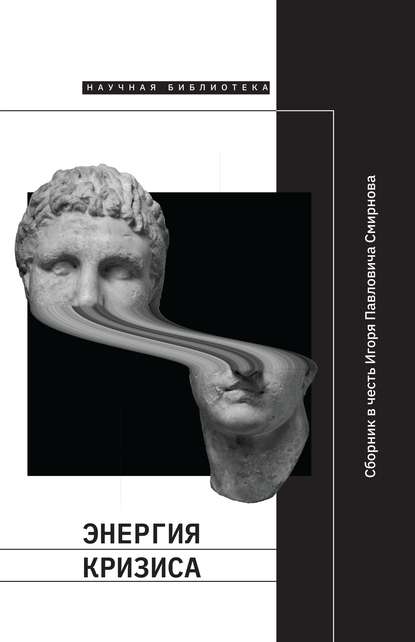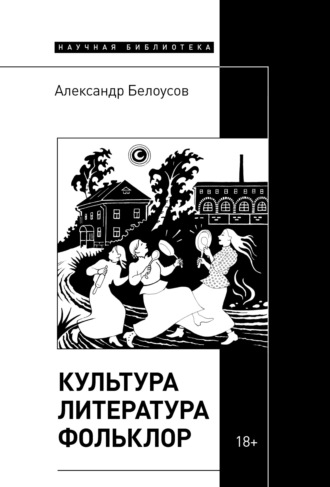
Полная версия
Культура. Литература. Фольклор
Итак, город выступает в качестве хранителя текстов и жанров традиционного фольклора.
Отступление традиционного фольклораВместе с тем во всех приведенных выше примерах бытования традиционного фольклора при дворах русских царей и цариц XVIII века есть целый ряд обстоятельств, которые самым неблагоприятным образом отразятся на его судьбе в жизни высших городских сословий, а затем и основной массы горожан XIX – начала XX века.
Обратим внимание прежде всего на то, что святки празднуются исключительно в своем кругу. Двор как бы замыкается в себе, но точно так же и все остальное дворянство старалось обособиться и отделиться от окружающего мира.
Даже участвуя в общих праздничных гуляньях, дворянство выделялось особой манерой поведения, своими нормами праздничного веселья. В то время как на знаменитых московских гуляньях под Новинским балаганные «паясы, в праздничных белых и разноцветных нарядах, своими натянутыми каламбурами смешат и искусно привлекают к себе чернь, которая, по-своему, отзывается самыми лестными похвалами»216 и т. д., «господа» развлекают себя чинным «каретным гуляньем». За церемониально-показной, зрелищно-декоративной стороной «гулянья в экипажах» очень трудно разглядеть его ритуальную основу – архаичную символику кругового движения в весенних обрядах.
В условиях города, – пишут этнографы Л. А. Анохина и М. Н. Шмелева, – складывались такие формы праздничных развлечений, увеселений, украшений, торжественных церемоний и т. п., которые все более и более отрывались от своей первоначальной основы и приспосабливались почти к любому празднику (например, гулянья с платными развлечениями, одинаковые на Пасху, Троицу, Петров день или любую ярмарку). <…> Наряду с традиционными праздничными обычаями в городе формировались новые, соответствовавшие иным, чем в селе, условиям жизни: официальные приемы, военные парады, балы, званые торжественные обеды, поздравительные визиты и т. п., не связанные или отдаленно связанные с народными обрядами217.
Бытовые новшества возникают в высших слоях городского общества, но постепенно «каждая среда вырабатывала свои, несколько особые формы праздничного времяпровождения, в разной степени сохранявшие традиционные черты, отвечавшие ее образу жизни в целом»218, но равно чуждые характеру традиционной календарно-обрядовой поэзии, которая так или иначе уходит из городского быта.
Можно предположить, что календарно-обрядовая поэзия не отвечает новым условиям жизни города. Возьмем праздник Нового года. Наблюдая за тем, как в господском доме «в 12‐м часу зажгли елку, затем стали ужинать и ровно в 12 часов с бокалами шампанского в руках стали поздравлять друг друга», выходец из деревни удивлялся: «в деревне у нас этот вечер просто считался кануном Васильева дня, и матушка уверяла, что новый год начинается первого марта, в тот день, когда сотворен мир»219. Это действительно новый праздник, развившийся именно в городской среде. В проведении этого праздника есть свои обычаи, но нет особых новогодних песен. Лишь в очень редких случаях можно говорить о возникновении в городе специфически календарных песен. Такова, например, «Татьяна», которую пели в день основания Московского университета, сначала отмечавшийся только его воспитанниками, а затем ставший праздником всего русского студенчества:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!Вся наша братья пьяна, вся пьяна, вся пьяна.В Татьянин славный день220.– А кто виноват? – спрашивал чей-то бас. – Разве мы?Хор отвечал:
Нет! Татьяна!И все подхватывали:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!Лохматый студент приятным баритоном запевал:
Нас Лев Толстой бранит, бранитИ пить нам не велит, не велит, не велит,И в пьянстве обличает.– А кто виноват? – спрашивал тот же бас. – Разве мы? Нет! Татьяна!И опять все разом:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!Вся наша братья пьяна…221Однако то, что свойственно одной из групп городского населения, не показательно для города в целом, песенный быт которого все более и более высвобождался из-под власти природных ритмов и терял связь с чередой особых календарных праздников.
Обособление дворянского сословия в первую очередь сказалось на семейно-бытовой обрядности, которая самым непосредственным образом связана с нормами поведения, интересами и ценностями социальной группы. Именно в дворянской среде начался процесс отступления традиционной свадебной обрядности, которая в конечном счете выпала из ритуала городской свадьбы. Если в первой половине XIX века «средний круг» городского населения еще слушал старинную свадебную песню, то уже в начале XX века на купеческой свадьбе оркестр играет «что-нибудь иностранное»: «1) Свадебный марш. Соч. Мендельсона. 2) Бандитенштрейхе. Соч. Зуппе. 3) Вальс. Соч. Вальдтейфель»222 и т. п. Вот что писала по этому поводу исследовательница брака и свадьбы у русских горожан Г. В. Жирнова:
В городской свадьбе в отличие от крестьянской мы не обнаружили традиционного жанрового многообразия народных песен, синкретически связанных с обычаями и обрядами. <…> полностью отсутствовали свадебные причеты… <…> Не обнаруживаются и собственно свадебные лирические песни, которые пелись хором в разные моменты в течение всего свадебного цикла. В то же время «величальные», шуточные «корильные» песни, сопровождавшие свадебное застолье, встречались главным образом у городского крестьянства. <…> К концу XIX века эти жанры свадебной поэзии вытесняются частушкой. <…> На свадьбах зажиточного мещанства, купечества и разночинной интеллигенции пели главным образом городские песни, модные в то время «жестокие романсы», а также песни и романсы литературного происхождения.
<…> У дворянства, крупного чиновничества, богатого и влиятельного купечества не было принято петь, сидя за свадебным столом. <…> Нередко устраивались специальные свадебные концерты с участием профессиональных артистов.
Таким образом, в середине XIX – начале XX века у социальной верхушки городского общества песенно-музыкальное сопровождение свадебного празднества имело совсем мало общего с народной обрядовой традицией. Оно сложилось и развилось под сильным влиянием профессионального искусства в соответствии с нормами общественного поведения и светского этикета223.
Основоположник этих новых норм общественного поведения и светского этикета Петр I запретил во время погребения царицы Прасковьи Федоровны (супруги царя Иоанна Алексеевича) идти за ее гробом плакальщицам. Плакальщицы были обязательными участницами похоронного обряда в Древней Руси. Они «шли впереди и по бокам похоронного шествия с распущенными волосами и нарочно искаженными лицами. Они кривлялись и вопили, то громко вскрикивали и заливались плачевными причетами, то заводили тихим, пискливым голосом, то вдруг умолкали и потом заводили снова; в своих причетах они изображали заслуги покойника и скорбь родных и близких»224. Запрещенная Петром, похоронная причеть довольно быстро прекратила свое существование в дворянском кругу и мало-помалу вообще уходит из городского быта.
Столь красочно изображенных Н. И. Костомаровым плакальщиц М. Г. Рабинович считает явлением, присущим именно городу225. Действительно, профессиональное исполнение фольклора – одна из древних традиций городского быта. При царском дворе и у знатных господ существовал специальный «штат шутов, шутих, сказочников, песельников, скоморохов, не знавших никакой другой обязанности, кроме той, чтобы в часы досуга потешать господ и гостей»226. Горожан на праздничном гулянии развлекали их собратья по ремеслу, бродячие скоморохи: музыканты, кукольники, краснобаи-потешники.
В русском городе нового времени преемниками древнерусских скоморохов являются балаганные «деды»-зазывалы, раешники, петрушечники и т. п., в выступлениях которых на праздничных гуляниях ярко и непосредственно выражается юмористическая стихия народного творчества227. Если балаганные «деды» лишь временно исполняли обязанности городского «артиста», то описанные Д. В. Григоровичем шарманщики (см. его рассказ «Петербургские шарманщики») были профессиональными мастерами уличных представлений, без которых трудно представить себе повседневный быт Петербурга XIX века.
Все это – важные и характерные явления городского фольклора XIX века. Однако, как и традиционная обрядовая поэзия, они представляют собой фольклор, мало-помалу уходящий из быта русского города. Его тексты давно перестали считаться достоянием городской общности, а исполнение их уже не побуждает всю аудиторию к активному соучастию в нем, к сотворчеству. Для значительной части городского населения ситуация устного общения в этих случаях утрачивает фольклорный характер, превращается в своего рода концерт, представление, зрелище, в котором «одни активно действуют – другие созерцают»228. Эти явления сохраняют свою актуальность лишь для фольклорного быта городских «низов». Но и отсюда их начинают вытеснять специфические формы развлекательного искусства – цирк и эстрада, быстро развивавшиеся в русском городе на протяжении XIX века.
Они возникают на основе фольклорного творчества. Весьма показательны, например, случаи, когда балаганный «дед» становится профессиональным актером и увеселяет публику уже на эстраде или в цирке229. Так фольклор перестает быть фольклором, превращается в профессиональное искусство.
Профессиональное искусство постепенно пронизывает собой публичную жизнь города. Сочетаясь со все более усиливающейся официальной, торжественной стороной городских праздников и обрядов, оно образует новые формы быта, в которых уже не остается места не только традиционному фольклору, но и любому другому виду коллективного творчества.
Бытовые основы городского фольклораСохранение и развитие традиций устного коллективного творчества все более связывается с такими явлениями в жизни города, которые сохраняют черты свободного и непосредственного общения между людьми, поддерживают его активный и самодеятельный характер.
Они отнюдь не являются порождением городской цивилизации.
Воскресеньем крестьяне «пользуются, чтобы сойтись вместе и потолковать о том, о сем, занимаясь в то же время плетением лаптей», – писал корреспондент из Есютинской вол. Вельского у. – Собирались для этого на одном из привычных мест – на завалинке какой-нибудь избы; сначала приходил один крестьянин <…> и принимался за работу; постепенно заполнялась вся завалинка. <…> Темой разговоров были прежде всего полевые работы или сенокос и все, что с ним связано. Применительно к сенокосу, например, свойства травы в этом году <…>, погода, качество привезенных кос и т. п. Серьезное обсуждение дел перемежалось остротами, поговорками. Хозяйственную тему сменяли рассказы бывалых людей: недавние солдаты рассказывали о своей службе или развлекали односельчан анекдотами; имели успех и истории странствующих швецов и чеботарей. Временами затягивали песни. Собирались, преимущественно, мужчины среднего и старшего поколения. <…> Иногда подходили парни с гармошкой. Могла возникнуть здесь же борьба или игра в городки, лапту и пр., с участием взрослых мужчин и парней. Сидящие на завалинке ободряли борцов и игроков, иронизировали над ними. <…> Самое широкое бытование имели в коллективном общении крестьян среднего и старшего поколения былички, бывальщины, легенды, предания, былины и другие жанры устного творчества, перемежавшиеся с меморатами и слухами о вполне реальных событиях общегосударственного значения230.
Если взять любое описание того, что происходило по вечерам во дворе большого городского дома – например, из книги А. Вьюркова «Рассказы о старой Москве», мы увидим, в сущности, ту же самую картину: местные новости сменяются обсуждением таинственного сна, который приснился одной из присутствующих, былички и бывальщины – сказкой, а рядом молодежь поет романсы и частушки…231 А так ли уж далеко от этого быта отстоит жизнь светского салона, в устной словесности которого слухи и сплетни соседствуют с историческими анекдотами, а «страшные» истории, вроде рассказанного Пушкиным «Уединенного домика на Васильевском», – с шутками и bon-mots салонного красноречия.
Все это – явления одной природы. Они основываются на более или менее свободном и непосредственном общении между людьми, которое создает все необходимые условия для совместного, коллективного творчества.
Вместе с тем нельзя не видеть и существенных различий между деревенским и городским видами этого творчества. То, что в деревне еще крепко связано с праздником, представляя собой особую, внеобрядовую сферу праздничного времяпровождения, город превращает в обычное явление повседневного досуга. В городе невозможно и объединение всех его жителей: свободное и непосредственное общение горожан редко выходит за рамки относительно малой группы людей. Очень показательны в этом плане даже картины городского «гуляния», когда оно не сковано строгими формами праздничного этикета:
Все пространство <…> усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали, в третьем слушали заливные песни цыганок, в четвертом потешал честную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. Везде забавлялись и <…> пили чай232.
Отдельный «кружок» – характерное явление городского быта.
Он может ограничиваться даже членами одной семьи, в кругу которой бытовал и бытует свой, «домашний» фольклор: «словечки», шутки, воспоминания-мемораты, к которым постоянно возвращаются в семейных разговорах, наконец, самые настоящие «фамильные предания». Существованию последних многим обязаны как наша история, так и наша литература (они были очень важны, например, для Толстого во время работы над «Войной и миром»). Хотя «домашний» фольклор слишком связан с бытом своей семьи, чтобы играть заметную роль в устной словесности города, он интересен и важен для изучения особенностей тех специфических форм коллективного творчества, которые лежат в основе городского фольклора.
Светский салон, разночинский «кружок», мещанская «вечеринка» – вот лишь некоторые виды коллективных встреч, коллективного общения в русском городе XIX века. Мы взяли самые что ни на есть обычные виды коллективных встреч в каждом из основных городских сословий, но рядом с ними существовали и другие, представлявшие меньшую или, наоборот, большую свободу участникам коллективного общения, как, например, бал и дружеская пирушка в дворянской среде. Все эти формы коллективных встреч почти не изучены с фольклористической точки зрения, а между тем именно в их условиях существовал и развивался городской фольклор. Не случайно один из его исследователей, говоря об улице в период расцвета городского уличного творчества, сопоставил ее с клубом233 – не «улица», а «клуб», как и предшествовавшие ему формы коллективных встреч русских горожан XIX века, служит основной движущей силой городского фольклора, потому что здесь сильнее, чем где-либо, проявлялся дух коллективного творчества.
Особенности городского фольклораОсновное место в устной словесности города занимает говорение. Существовали формы коллективного общения, из которых было вообще исключено всякое любительское, а тем более общее, хоровое пение, тогда как ни одно общение не обходится без каких-нибудь разговоров.
Содержание этих разговоров зачастую сводилось к различным «слухам и толкам». Любое событие вызывало волны самых невероятных слухов. Вспоминая об аресте петрашевцев, Некрасов в 1871 году писал:
Помню я Петрашевского дело,Нас оно поразило, как гром,Даже старцы ходили несмело,Говорили негромко о нем.Однако, если обратиться к мемуарной литературе, видно, как громко и много говорили о «деле» Петрашевского, сколько «слухов», «нелепых россказней», «сплетен и выдумок» гуляло в то время по Петербургу. Они ярко отражают мировоззрение различных кругов столичного населения: чего стоит, например, слух о безбожниках-петрашевцах, которые «будто бы в пятницу на страстной неделе <…> кощунствовали над плащаницею»234.
Еще больший, на мой взгляд, интерес представляют «неосновательные рассказы» про «зеркальную», небольшую проходную комнату в здании III отделения, «наслышавшись» которых, один из арестованных ходит «все время около стен, боясь вступать на средние квадраты паркета…»235. Здесь «надо иметь в виду упорно державшиеся слухи о том, что в III отделении в кабинете шефа жандармов имеется кресло, которое опускает сидящего до половины в люк, после чего скрытые палачи, не видя, над кем они учиняют экзекуцию, секут его. Разговоры о таком «келейном» наказании, – пишет Ю. М. Лотман, – циркулировавшие еще в XVIII веке в связи с Шешковским (см. воспоминания А. М. Тургенева), возобновились в царствование Николая»236. Однако «такого рода слухи циркулировали в кругах молодежи еще в 60‐х годах и даже в начале 70‐х»237 годов XIX века.
Этот весьма характерный и сам по себе слух просуществовал столь долгое время, что заслуживает внимания даже по соображениям чисто фольклористического порядка. Мы привыкли отмахиваться от «молвы»238, не замечая при этом, какими устойчивыми бывают мотивы «слухов и толков», которые в той же мере, что и фольклор, являются продуктом коллективного творчества.
Да это и есть фольклор: особый – городской, но фольклор. Отлучать его от фольклора только потому, что тексты такого рода воспроизводятся однократно для каждого слушающего, нельзя. Ведь в таком случае нам придется исключить из рассмотрения и анекдот, чего вроде бы делать не принято.
О «страстишке к анекдотам» городских людей писал еще Некрасов:
у нас очень много охотников до анекдотов: анекдоты составляют насущную, ежедневную пищу наших разговоров, и, не будь на свете анекдотов, нам пришлось бы погибнуть во цвете лет от апатии и геморроя, назло автору книги: «Нет более геморроя». Мы теперь играем в преферанс и изредка рассказываем анекдоты239.
По своему происхождению анекдот близок «слухам и толкам»: первоначально под ним понимали неизданное историческое свидетельство, однако впоследствии он стал означать краткий и остроумный рассказ о забавном происшествии или метком ответе. Именно такого рода анекдоты и имел в виду Некрасов. Бытовых анекдотов XIX века сохранилось не так уж много, известные нам мало чем отличаются от современных – ср.: «Какое сходство дамы с каретой? И та и другая ломаются и притворяются»240.
Анекдоты, как и слухи, зарождаются в условиях непосредственного общения между людьми. Рядом со сплетником (сплетницей) в салоне или на вечеринке можно было встретить остряка, чьи остроты и каламбуры легко превращаются в анекдот и быстро распространяются в разных кругах городского общества. Острослов и сам по себе представляет одну из местных достопримечательностей, рассказы о нем становятся анекдотическим эпосом своего круга и даже целого города241. Иногда острослов и сплетник сливаются в одном лице: примером тому – известный П. В. Долгоруков, «салонный bel-esprit, умеющий остро сказать, зло подсмеяться, ехидно посплетничать на чужой счет»242.
Вот так же слух и анекдот неразрывно связаны между собой в городской молве. Она ориентируется на новость: будь то реальная или выдуманная информация об изменениях, происшествиях в окружающем мире или же открытия изобретательного и находчивого ума, которые столь развлекают и забавляют городского человека. Эта сфера городского фольклора в полной мере отражает специфику городской культуры, городского образа жизни, наконец, особого, городского мироощущения.
Есть и другие, более традиционные жанры фольклорного говорения в городе: сказы, былички и бывальщины, предания и легенды и т. д., – каждый из которых, безусловно, интересен и важен. Однако не они, как мне представляется, определяют своеобразие городского фольклорного рассказа и вообще – городского фольклора.
Связь городского фольклора с повседневным бытом горожан, отражение в нем обычных, будничных забот и интересов городской жизни сочетаются с такими же тесными отношениями его со сферой профессионального искусства: литературой, музыкой, театром и т. д. Салонные беседы, разговоры в интеллигентском «кружке» или на мещанской «вечеринке» часто прерывались чтением, пересказом литературных новинок. В обстановке живого и непосредственного коллективного общения возникают сложные полулитературные и полуфольклорные формы словесной игры, стихотворных экспромтов или импровизированных рассказов. Иногда литература, как это было, например, в конце XVIII – начале XIX века, настолько срастается с бытом, что становится даже трудно провести четкую грань между письменными и устными, фольклорными явлениями городской словесности. Однако и во все другие времена между литературой и фольклором города происходит постоянный обмен мотивами, сюжетами и целыми текстами. Как в устном анекдоте легко встретить тексты из книг вроде «Анекдотов всех времен и народов», так и в литературе часто попадаются пересказы ходячих анекдотов и городских слухов, примером чего служит хотя бы повесть Некрасова «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко», в основу которой лег случай, наделавший «страшный скандал» в Москве и бывший там «предметом разговоров, куда ни приди»243. Напомню и об отголосках безобразовской «истории» во второй редакции гоголевского «Портрета»244. Самым же поразительным образцом слияния городского фольклора и литературы является знаменитый «петербургский миф», эсхатологическая легенда о будущей гибели петровской столицы, в развитии которой не только устные «слухи и толки» влияли на литературные произведения, но и сами литературные произведения порождали все новые «слухи» и даже исторические предания245.
Огромное влияние на устную словесность города оказывал и театр. Отмечу в этой связи слова Аполлона Григорьева о том, что «Гамлет» в переводе Н. Полевого «разошелся чуть что не на пословицы»246, но, конечно, куда более значителен вклад театрального искусства в городской песенный фольклор.
Больше известно о том, как горожане подхватывали и распевали оперные арии и хоры. Особенно счастливой в этом отношении была судьба «Аскольдовой могилы» А. Верстовского247: песни, романсы, мелодии оперы широко вошли в песенную культуру русского города XIX века – их можно было слышать не только в музыкальных концертах, но и на домашних «вечерах» и «вечеринках». Однако не меньшее распространение имели и самые разнообразные водевильные куплеты, которых сменяют к концу XIX века юмористические и сатирические куплеты эстрадного представления. Они, как, впрочем, и частушечное наследие русской эстрады начала XX века, совершенно не исследованы в плане своего фольклорного бытования, но есть все основания предполагать, что их роль в песенном фольклоре русского города была весьма и весьма значительной.
Эти жанры городского песенного фольклора все еще находятся в тени лирических песен и романсов, изучение которых давно уже показало, что история фольклорной лирики города, так называемого «бытового городского романса», тесно связана с развитием музыкального искусства в России XVIII – первой половины XIX века. Дело даже не в простом заимствовании текстов, созданных и исполнявшихся музыкантами-профессионалами. Анонимные песни, бытовавшие в городской среде, ее «гитарная» лирика показывает, что, изживая традиционную народную песню, русский город XIX века все более ориентировал свой песенный быт, свой песенный фольклор на доступные ему образцы музыкального (и поэтического) профессионального искусства.
Любопытным примером такой ориентации является «жестокий» романс, а точнее – лирико-эпическая баллада, возникшая в результате освоения городским населением литературной романтической баллады.
Эта <…> баллада была воспринята народом, получила распев и превратилась в песню-балладу нового времени. Характерно, что все особенности русской романтической баллады были сохранены народной средой. Мы увидим здесь и значительную долю психологического лиризма («Кончен, кончен дальний путь…»), и рыцарскую тематику («Мальвина»), и Кавказ («Хас-Булат»). Широкое распространение получили и самостоятельные народные сочинения, где романтической страной, далекой от привычной, обыденной действительности, является море, где поэтизируется жизнь рыбаков и матросов («Сказки морские» <…>)248.
Весьма популярным образцом этой баллады была «Морячка»: рассказ о том, как моряк обманом увозит с собой девицу, которая очень расстраивается, что ей суждено быть «простой морячкой»; однако тут же выясняется, что моряк – «сын наследный короля», целых восемь лет искавший и вот, наконец, нашедший себе супругу. Более поздняя баллада отличается какой-то особой кровожадностью, интересом к «самым кошмарным, зачастую патологическим фактам уголовной хроники»249 («Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою…»). Этим она вполне соответствует общему характеру городского фольклора, его ориентации на новость, происшествие и т. д. Однако, в отличие от остроты или анекдота, усматривающих в новостях лишь их забавную сторону, «жестокий» романс изначально настроен на переживание печальных и трагических последствий «разлук», «измен» и тому подобных событий бытовой жизни. Смех должен дополняться и уравновешиваться слезами, вызвать которые и пытался мелодраматический, пошлый и примитивный, как сплошь и рядом определяют его, «жестокий» романс: