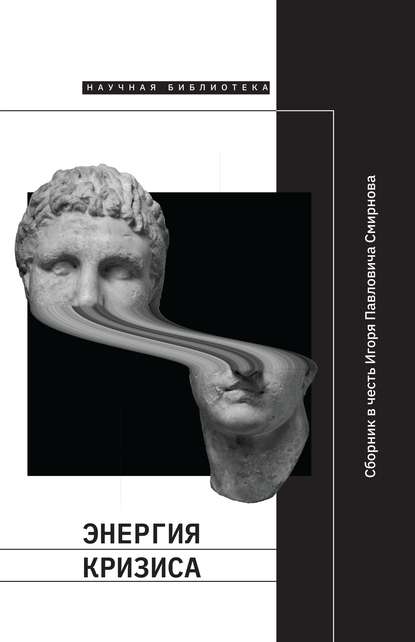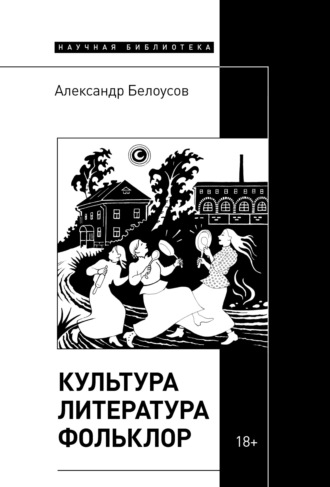
Полная версия
Культура. Литература. Фольклор
Особенно показательно восприятие информантами различных новшеств. «Всякая мелочь, прежде невиданная, предвещает конец света»131, потому что отождествляется с какой-нибудь из его «примет». Вот и «телевизор» уже успели истолковать таким образом, будто бы он воплощает в себе предсказание «писания» о том, что накануне светопреставления «с неба посыплют огненные стрелы, загремит, да взыграют струны»132: «огненные стрелы» как бы соприсутствуют в изображении на телевизионном экране, а «струны» ассоциируются со звуковым сопровождением. Аналогичным путем эсхатологические прообразы устанавливаются и для других новинок и нововведений.
Однако далеко не все «приметы» «конца света» представляются образным подобием определенных предметов и явлений. Многие из них (и очень важные – например, предсказания «войн» или торжества «греха» и «безбожия») просто отождествляют с фактами современной жизни, что особенно подчеркивает ее сходство с «последним временем». Более того, само отношение «примет» к действительности может быть неоднозначным: наряду с всеобъемлющей метафоризацией мира вещей для старообрядческой эсхатологии характерна и реализация традиционных «примет» – метафор, когда с забвением внутренней формы используется их прямое значение – в результате нейтральный прежде предмет наполняется сугубо эсхатологическим смыслом. Так, предчувствуя обещанный «святыми книгами» перед «концом света» «голод», одна информантка называет среди признаков будущего «неурожая» и «паутину на смороде». Столь многозначительной эту мелочь делает буквальное понимание давней и все еще популярной «приметы» «конца света» – «паутины», которой (как и «путам»/«кишкам») обычно уподобляются «провода» («железная проволока»), «телефон» и т. п. А возможным такое обращение с традиционной «приметой» стало потому, что забывается один из основных мотивов старообрядческой эсхатологии, изображающий окончательную победу зла перед светопреставлением в виде опутывания мира антихристовой сетью133. Среди различных вариаций этого мотива (ср. уподобление «проводов» непосредственно сети134) «паутина» и встречается чаще других, и происхождением своего эсхатологического смысла, по-видимому, обязана тому же кругу представлений, что и сеть. Если сетью/сетями обозначались дьявольские козни (так как считали, что главные усилия дьявола направлены на уловление душ135), то с ними связывалась и «паутина». Вот эта мировоззренческая основа уже не ощущается нашими информантами. Поэтому образ «паутины» утрачивает свою смысловую структуру, что и приводит к его произвольному истолкованию.
Пример с «паутиной на смороде» – далеко не единственное свидетельство тому, что среди информантов зачастую отсутствует правильное понимание смысла старинной эсхатологической образности (и прежде всего – ее слоя, восходящего к традиционным представлениям о дьяволе). Это же проявляется и в неожиданных сближениях разнородных эсхатологических образов. Так, например, «провода» предсказывались «старыми людьми» еще и в виде «змей», которыми «будет <…> вся деревня проедена». Некогда с этим действием «змей» / «змея» («змий» – обычный для христианской культуры образ дьявола) связывалась совсем иная по своему характеру символика светопреставления – ср. высказывание «столовера» в рассказе Алексея Ремизова «Пожар»: «расщепился на Москве царь-колокол на мелкие осколки, и каждый осколок в змея обернулся, и уползли змеи под колокольню Ивана Великого. Колокольня качается, а как грохнет <…>, наступит всеобщее скончание живота»136. Лишенное же этого контекста действие «змей» (здесь – «проевших деревню») оборачивается «приметой» «конца света», подменяя собой традиционную в таких случаях «паутину» (о которой тем не менее напоминается в указании на зловещее свойство «проводов»: «деревня опутана ими»). Хотя минимального внешнего сходства «проводов» со «змеями» оказалось достаточно для того, чтобы с помощью этого образа указать на эсхатологическое значение очередного предмета действительности, о его символической природе информанты, кажется, и не подозревают. Он стал расхожим штампом, который применяют к самым разнообразным новшествам – от самоваров (что «змеями» «перед концом света <…> на столах сипеть будут»137) до «самолетов»138 – скорее по привычке и о чьем содержании не задумываются, довольствуясь его традиционной эсхатологической окраской. Можно сказать, что в современной старообрядческой эсхатологии образ змей (как и образ «паутины») является реликтом прошлых верований, когда во многочисленных «змеях» легко угадывалось наступление царства антихриста (дьявола).
Характер эсхатологической образности, символизирующей дьявола, по-видимому, связан с тем, что сам этот персонаж христианской мифологии не находит себе места в мировоззрении многих наших информантов: концепцию внешнего (по отношению к человеку и обществу) отрицательного/разрушительного начала в мировом процессе, которое традиционно олицетворялось образом дьявола, вытесняют представления совершенно иного характера, усматривающие источник зла внутри человеческого общества – в людях. В противовес привычным для народной религиозности (хотя и довольно редко встречающимся по нашим материалам) суждениям о жизни как об арене борьбы внешних сил – Бога и дьявола (ср.: «говорят, есть два царства, богово и чертово. Бог держит людей в мире, черт делает все наоборот» / «промеж <„Богом“ и „нечистым“. – А. Б.> война идет»), развивается идея сугубо человеческой ответственности за деградацию общества в «последние времена».
Она принципиально отличается от воззрений (бытующих и среди определенной части наших информантов), по которым зло исходит от людей, ставших орудием вредительской деятельности дьявола. Согласно этим воззрениям, любой поступок, вплоть до систематического отступления от предписанных норм человеческого общежития («если мы живем и не делаем, как в книге писано…»), объясняется дьявольским обольщением («сатана соблазняет на зло» / дьяволы «направляют на богопротивное дело» – «сатана народу дает плохой ум» и вообще «смущает людей на все дела»). Не важно, «живет ли дьявол» «меж людьми» или же «вселяется в них (что чаще всего изображается так, будто бы он «в воде сидит и людей ловит», а «напьются люди воды – тут и ссора, драка в семье»), инициатива зла принадлежит только внеположному разрушительному началу. Эсхатологическим смыслом эти воззрения наполняются, когда обольщение представляют уже не выборочным (ср. поверья о колдунах и пр.), а всеобщим – «все мы теперь в руках его <дьявола. – А. Б.>».
Идея же саморазрушения человеческого общества возникает на почве иных демонологических мотивов. И если в высказываниях тех, кто считает людей самостоятельным источником зла, какие-то моменты напоминают представления о дьяволе-соблазнителе, то это сходство является совершенно случайным. Так, когда один из информантов заявляет, что «теперича уже не черт нами владеет, а люди – чертом», – он вовсе не имеет в виду исконный смысл обладания «чертом» (по народным верованиям – специальными чертями-помощниками дьявол наделял колдунов), но пытается выразить мысль об особом, превращенном, характере «последних времен». Именно она и определяет последующее обращение информанта к студенткам: «сами вы моду выставляете, в штанах ходите», которое заключается многозначительным указанием на то, что дьявол в настоящее время бездействует: «черт» здесь только «смотрит и радуется».
Это представление о бездействии дьявола неразрывно связано с идеей саморазрушения человеческого общества: «ходит черт и жалуется – нечего ему делать: всю его работу делают люди». Причем говорится уже не о «вредительстве» отдельных лиц (какого-то конкретного «паскудного человека») или определенной категории людей («нехороших»/«злых» и т. п.), а о поголовном приобщении ко злу, когда «каждый человек – другому первый враг». Поэтому все человеческое общество начинает изображаться по образу и подобию «нечистой силы»: сменив в качестве разрушительного начала дьявола, люди «уподобились бесам» до того, что даже внешне походят на «чертей» – «сами черные, глаза красные», но, главное, они не хотят «осенять себя крестным знамением», так как «после Никона» «все – дьяволы».
Осмысляя переход инициативы зла к людям как подмену человеческого общества «чертовым царством», информанты исходят из представлений о всеобщем превращении, которым охвачен мир накануне светопреставления. Те же представления обычно сказываются и в объяснении причин саморазрушения человеческого общества: «люди» не просто «перестали бояться черта», но теперь уже «черти нас боятся» и поэтому – «бес от людей ушел» / «антихрист схоронился (…) от людей». Однако сама мысль о том, что люди стали автономными источниками зла, вовсе не является продуктом современного эсхатологического сознания. И когда одним из информантов предсказание о бездействии дьявола возводится ко времени Андрея Юродивого («в ранние годы бес сидел на камне и плакал. Приходил Андрей Уродлив, спрашивал: „Бес, что ты плачешь?“ – „Эх, скоро нам работы не будет, некого будет соблазнять. Интерес кого от церкви отбить, смутить“»139), то это только подтверждает давность нынешних представлений. Старообрядческая эсхатология развивает некоторые положения средневековой народной религиозности, по которым дьявольская деятельность направлялась исключительно на преодоление благочестия («интерес кого от церкви отбить, смутить»); праведники окружались искушающими их бесами, тогда как у грешников им было нечего делать140. Ощущение всеобщей греховности, принимающей с приближением «конца света» беспрецедентный размах, актуализирует эти идеи о возможном самоустранении дьявола от вмешательства в человеческую жизнь и концентрирует внимание информантов на внутренних причинах зла, царящего среди людей.
Общемировоззренческий смысл подобного умонастроения раскрывается в его отношении к категориям естественного/сверхъестественного и видимого/невидимого, которыми по традиции оперирует мышление данной среды.
Так, убежденные в исключительной греховности современного общества информанты считают, что сверхъестественный мир добра и благодати (Бог, ангелы, святые) ныне уже ничем не проявляет себя в человеческой жизни и вообще делается невидимым для «забывших Бога» людей. Если «Исус Христос шесть недель, от Пасхи до Вознесенья» и «ходил по земле» (другой информант даже утверждает, что это «раньше Бог ходил по земле»), то «никто его не видит, так как все грешные». Только «лжепророки» «говорят, что видели Бога или Исуса Христа, но это – неправда»: «Христа никто не видит». То же самое говорится и об «ангелах», которые «ни к кому из нас грешных не являются» (да и в будущем «нашему брату ангела не придется увидеть»); и о «святых», что «раньше <…> по земле ходили»141 и чьи «явления» «раньше праведным были», а «теперь – нет»; и даже о том, что сейчас «и явлений чудотворных икон нет». В общем, как утверждает один информант, «никаких явлений нам не будет»142.
О современном же состоянии сверхъестественного мира зла и скверны мнения информантов существенно расходятся. Многие убеждены в том, что его отличает неизменная явленность людям – «нечистая сила» и «сейчас встречается», как она «встречалась» когда-то «в прежность». Таким образом, невидимому сверхъестественному миру добра противостоит видимый («до конца света») сверхъестественный мир зла: «бесов многие видели, ангелы никому из нас грешных не являются». Эта коллизия, конечно, способствует объяснению греховности человеческого общества воздействием на него извне, со стороны представителей сверхъестественного мира зла. Однако не меньшее число сторонников имеет другая точка зрения, согласно которой и мир зла становится невидимым для людей: «нечистая сила» «раньше, говорят, в прежности была» и «бесы являлись в разном виде», а «сейчас нечистой силы нет». Едва ли авторы подобных высказываний просто «берегутся» от «нечистой силы» (как известно, «про дьявола говорить грех – они ждут, кто про них вспомнит»)143 – ведь речь идет уже о том, что весь сверхъестественный мир, прежде (когда «и святые, и бесы по земле ходили») имевший непосредственное отношение к человеческой жизни, «являясь» людям и «направляя» их или на «богоугодное», или на «богопротивное дело», «теперь» совершенно отвернулся от них. Этой не-явленности сверхъестественного мира оказывается достаточно, чтобы объявить его несуществующим, так как критерием существования признается лишь видимость деятеля (предмета) явления. И «черта нет, поэтому его никто не видел», и потусторонняя жизнь вызывает сомнения: «оттуда никто не приходит и нам не рассказывает», – кругозор информантов принципиально ограничен видимым миром («на небо» ведь «не полезешь»). Только в таком контексте выявляется истинное значение многочисленных указаний информантов на отсутствие «нечистой силы» в настоящее время.
Связываясь с мыслями о нынешнем «прегрешении народа», эти воззрения оборачиваются идейной проблематикой ухода дьявола от людей и т. п. Но невидимость сверхъестественного мира иногда обусловливается иными обстоятельствами – например, невозможностью увидеть его представителей: человек обязательно «умрет» при виде как «ангельской красы», так и «черного, некрасивого, страшного сатаны» (впрочем, по другим сведениям, он бывает наподобие «ангела»: столь же невыносимо «красив»144). Разнообразие мотивов, объясняющих невидимость сверхъестественного мира, лишь подчеркивает исходный характер этого представления, которое, по сути дела, и определяет идею сугубо человеческой ответственности за состояние своего общества.
В собственно эсхатологическом плане ей более всего соответствует отрицание предопределенности светопреставления и связанных с этим хронологических выкладок: «конец света» «пошлется нам за большое беззаконие», но, когда точно «Господь не сможет с нами совладать» и «разгневается на людей», неизвестно. Это зависит только от «поведения людей» – «Бог сказал: „Глядя по людям – и убавлю, и прибавлю“». Сам же принцип человеческой самодеятельности вовсе не исключает возможности существования среди людей инициативы добра. И действительно, есть информанты, которые считают, что если люди будут «веровать», «усердно молиться», «народ будет жить лучше, крепче веру держать», то «Бог» «прибавит веку» / «продлит <…> время жизни еще дольше» и «конец света наступит не так скоро» – «отодвинется срок». Однако старообрядческому мироощущению более свойственно наделять людей инициативой зла, что ни в коем случае не «отодвинет», а, наоборот, должно приблизить «конец света»: «а может, это и раньше случится» – «люди» обязательно «будут сильно грешить», так как «живем в самом страшном времени».
Вся изображаемая информантами картина человеческих «прегрешений» и «беззаконий» делает «маловероятной» надежду на то, что «Бог продлит <…> время жизни»145 – люди должны быть «готовы всякий день, всякую минуту ко второму пришествию»146.
Важнейшим нарушением «прежнего закона» считается отход человечества от религии. Иногда его представляют еще только как ослабление «веры»: «раньше вера крепче была», а «мы остываем» и «не будет теперь вера возобновляться, на ущерб пошла» – «дети еще держат веру, а внуки совсем из формы выйдут». В этой связи приводится и соответствующее предсказание «писания»: «почему меньше верить стали? А в писании так и написано: „Храмы ваши опустеют, меньше будет в ваших храмах приходящих и молящих“»147. Чаще же говорят не об ослаблении «веры», но о полной утрате ее. Поэтому видоизменяется и характер того, что некогда предсказывалось «святыми книгами», – в них, оказывается, «было написано»: «…опустеют ваши храмы, не будет в них ни приходящего, ни молящего». Так оно и вышло: «некогда и некому молиться» / «некому молиться, и люди знающие теряются».
Тем не менее информанты редко говорят о современном безверии человеческого общества. Мысль о том, что «сейчас <…> ни во что не верят», постоянно опровергается указаниями и на «смешение веры», и на существование «перед концом света на земле семидесяти семи вер», а самым популярным является представление о распространении лжеверия в «последние времена». Вместо «Бога» «теперь в космос верят, в радио, в телевидение». «Кино» становится храмом «лжеверы»: «теперь народу больше в кино хочется, чем в церковь», и «детей с малых лет» «ведут <…> не к божьему служению», а «в кино». Истинные же «храмы», как и предсказывалось, «превратились в хранилища и в места для бесовских игр»148. «Не будет ни ладана, ни кадила, а будет только табачное курило», – говорит один из информантов, используя давнюю старообрядческую характеристику православия149: как и в прошлом, этой формулой пытаются изобразить антимир, порожденный лжеверием.
Лжевера привлекает «бессмысленных» прежде всего своей видимой легкостью: отступают, «чтобы как легче было». Однако, с точки зрения «знающих людей», любое облегчение жизни неизменно сопровождается утратой «веры». Вот, например, «сейчас человек мало работает – за него все машины делают»: «…у меня плита газовая <…> – чирк спичкой – она сама и горит, и варит. Раньше человек все сам делал, пешком ходил пятьдесят-шестьдесят верст, если коня у него нет, а теперь на машине едет. Людям теперь легче работать». Но именно поэтому, заключает информант, и «праведных меньше стало». Более того – «вера» делается просто ненужной: «у Бога помощь просили» в прежней «тяжелой жизни», а «теперь» – «не верят». Такая «легкая жизнь» и является той «хорошей жизнью», которую антихрист «сперва даст людям…».
Сам же образ антихриста, этого лже-Христа христианской эсхатологической легенды, среди наших информантов помнится довольно плохо. «Антихристом» чаще всего называют или любого представителя «нечистой силы» («много было разговоров об антихристе – все больше про домового») или «самого главного среди бесов» («сатана и антихрист – одно и то же. Антихрист – это по-новому, по-научному. Антихрист – значит: анти+Христос, т. е. не спаситель, а враг рода человеческого – дьявол»). Значительно реже слово «антихрист» понимается в его общем значении: «по грамматике – тот, кто не верит в Христа» / «сама по себе объясняет частица «анти», т. е. это – человек, идущий против Христа», а также – «кто в Бога не верует», или, наконец, «антихристом звали каждого, кто не староверческой веры». В этой связи некоторые информанты вспоминают патриарха Никона, которого их предки «антихристом называли»150, – и если одни продолжают видеть в нем «антихриста» (т. к. Никон «еретик был, самый главный-от»), то другие считают, что «Никон им <„антихристом“. – А. Б.> не был: «он ведь не шел против, а только изменил книги» (или – «только молитвы изменил»).
Почему же в высказываниях информантов традиционный образ антихриста (в христианской эсхатологии это совершенно особый человек греха, через посредство которого и будет действовать дьявол перед светопреставлением) так часто подменяется более заурядными врагами истинной «веры»? Дело, наверное, в том, что все наши информанты являются старообрядцами-беспоповцами, а беспоповщина (как федосеевцы, так и поморцы) основывает свое существование на учении о т. наз. духовном антихристе: согласно этому учению антихрист воцарился в русской церкви с 1666 года и царствует духовно, проявляясь в ересях, которые содержит послениконовское православие. Таким образом, под антихристом здесь понимается не особый человек, но – дух зла, что в значительной степени способствует отождествлению антихриста с «нечистой силой». Может быть, поэтому и встречаются высказывания, где об «антихристе» говорится, что это – «дух», «черт» / «черт, невидимый дух» / «нечистый дух». Во всяком случае, «чертом» «антихриста» считают даже те, кто утверждает, что он «появился в 1666 году, должен был появиться после Никона». Этой эсхатологии без антихриста очень соответствует характер одного из отголосков популярной в прошлом легенды о царе Михаиле151: говоря о том, что «конец света» будет, когда придет царь Михаил, сядет на престол, сложит над головой руки и скажет: «Больше не могу», – информант переиначивает кульминационный момент старинного сказания, где Михаил «снем <…> с себя венець и возложит на крест, все людем видящим, и воздев руце свои горе на небо и даст царство Богу и отцу»152 в преддверии царствования антихриста; здесь же, вместо этого, наступает светопреставление.
Тем не менее традиционный образ антихриста все же сохраняется в памяти отдельных информантов. Однако представления «знающих людей» об антихристе носят, как правило, весьма общий характер: «скоро народится» / «родится в народе» «антихрист»; он «будет людей совращать» / «всех будет обращать в свою веру» – «будет выдавать себя за Христа и смущать верующих»; «кто ему поверит, тому он деньги даст, а кто – нет <…> того антихрист будет долго мучить» (или даже «уничтожит»), – вот и все сведения, которыми обычно на этот счет располагают информанты.
Лишь в одном высказывании христианская эсхатологическая легенда излагается более или менее подробно: «…объявится на земле антихрист <…> Праведные пойдут на службу к нему, а в заверенье разрежут мизинец и подпишутся кровью своей – значит, служить ему будут верой и правдой. Тогда гром загремит, Илья спустится. Он и сейчас гремит там – слышно его. Сильная битва будет Ильи и антихриста и отрубит антихрист Илье голову». Следует обратить внимание на то, как здесь представляются известные эпизоды этой легенды: наложение антихристовой печати превращается в заключение договора с «нечистой силой», который обычно скрепляется распиской, подписанной кровью из мизинца153; а упоминая из обличителей «антихриста» только одного – Илью, информант как бы воссоздает поединок бога громовержца (ср.: «он сейчас гремит там <на небе. – А. Б.>») с его противником – змеем154, но с характерным для эсхатологического контекста финалом (победой «змея»/«антихриста»). Под влиянием традиционных верований происходит фольклоризация христианской эсхатологии. Любопытно, что именно в усвоении традиционного образа антихриста народная эсхатология более, чем когда-либо, основывается на фольклорно-поэтических представлениях (ср. еще изображение антихристова царства: «три с половиной года будет править антихрист – три года не будет кукушка куковать, шесть годов соловей не будет петь»155), хотя обработка литературного предания в собственно фольклорном духе в общем не характерна для эсхатологических верований наших информантов.
Отголоски легенды об антихристе встречаются и за пределами ее непосредственного отражения в высказываниях информантов. Так, например, лжезнамения, которыми антихрист – по сказаниям о нем – привлечет к себе человечество, превращаются в обычные «приметы» «конца света»: «написано, что вокруг земли будут летать»156; «когда изменят луну и солнце, тогда – и конец света»157. Однако субъект действия здесь выражен в неопределенно-личной форме, что уже может свидетельствовать о забвении источника этих «примет». Окончательно же всякая связь с антихристом теряется при их истолковании: предсказанное изменение «луны и солнца» видится, к примеру, в том, что «человек – на луне, скоро и до солнца доберется».
Легенда об антихристе не пользуется среди наших информантов той популярностью и не имеет того значения, которые свойственны ей в литературной традиции. Деятельность обыкновенного человека и состояние человеческого общества в целом – вот что прямо беспокоит информантов и является главной темой их высказываний. Вместе с тем эсхатологические представления информантов в известной мере определяются содержанием старинных сказаний об антихристе. Можно даже предположить, что и существующий здесь образ лжеверы (хотя бы в некоторых своих чертах – вспомним «кино») восходит к описанию мечтотворений антихриста в эсхатологической письменности158. Однако у информантов, вопреки церковному преданию, лжевера является причиной человеческих «беззаконий», но отнюдь не следствием исполнившегося нечестия мира. Характерное для народной эсхатологии совмещение черт искушения (лжеверой) и нечестия в изображении кануна светопреставления приводит к тому, что и сам антихрист иногда выступает в типичном обличье людей «последних времен» – ср.: «антихрист будет ходить полуголый».
Человеческое общество перед «концом света» представляют во всем противоположным нормальному. Его социально-культурные ценности утрачиваются вместе с истинной «верой»: «правды не будет на земле»; «люди <…> ничего не будут знать», они «потеряют всякий стыд и совесть», «среди них исчезнет страх»; взаимоотношения между людьми перестанут характеризоваться «любовью», «сочувствием», «пониманием» и «почитанием» («почтением»). Изображается мир «неправды», «бесстыдства» и «ненависти».