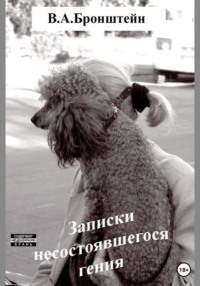Полная версия
Невезение. Сентиментальная повесть
И лишь после лицезрения всей этой роскоши взгляд невольно падал на несколько картин в дорогих рамах, весьма похожих на известные подлинники, да старинную, потрескавшуюся от времени крупную икону с тускло горящей лампадой.
И всюду книги, книги, книги… В основном, старые добротные издания. Роскошные переплеты соседствуют с пожелтевшими от времени журнальными подшивками, попадаются томики на французском.
На секретере большой фотографический портрет. Знакомое лицо. Что это?! Пронзительный укол в сердце. Не может быть… Лучше бы сюда ему не приходить. Ай да баба Нюра!
Гл. 5
Перечитал написанное. И дураку ясно, что Василий Иванович – это я. Тогда зачем писать о себе в третьем лице? И кому может быть интересен этот мой бред, ведь иначе все то, что со мной случилось за последние годы, назвать нельзя?
Учитель, преуспевающий директор школы, муж обаятельной милой женщины – неужели теперь у меня все в прошлом?
Все развалилось в один день. Мое благополучие оказалось довольно шатким. Бетонная опора упала не только под углом школьного здания – она рухнула и подо мной. Мы знали, что корпус дает осадку. Сколько раз я советовался по этому поводу со строителями. Обращался в райком партии. Пустые разговоры. А надо было бомбить всех письмами. Чтобы остались следы.
Обижаться мне не на кого, да и не за что. Пострадали дети. Два человека. Меня судили за преступную халатность, которая привела к гибели двух человек. Суд над директором 38-й школы Василием Ивановичем Коркамовым получил широкую огласку в системе образования. На процесс согнали директоров школ. Гороно предоставило общественного защитника, который доказывал, какой я хороший и какие плохие строители. Судья безучастно перелистывала какой-то журнал в цветастой обложке. Процесс имел показательный характер – бить по своим, чтобы чужие боялись.
Сейчас я веду странную жизнь. Идти снова в школу, в родную среду, и чувствовать постоянное шушуканье за спиной – выше моих сил. Не хочу никому ничего объяснять. Я свое получил. Надо жить дальше. Пока я сидел, жена развелась со мной и выписала меня из квартиры. Поступила вполне грамотно, ничего здесь не сделаешь. Но жизнь идет, и я с ней тоже. Теперь я грузчик в продуктовом магазине. Пять дней работы – столько же отдыха. Это график моей смены. Зарплата – 180 рублей. Свободного времени – навалом, вот я и пишу. А без булды – мне тесно. Как будто давит воротничок сорочки, который никак не удается расстегнуть.
Мне 39 лет. Я прошел тридцать девять бед. Имею сестру, которая может общаться со мной только тайно. И чужую большую комнату, битком набитую старинными вещами.
Вот сижу я сейчас и пишу эти никому не нужные строки за гостиным столом, чудная крышка которого с тускло-багровым от старости благородным налетом надежно сидит на четырех искусно вырезанных безымянным мастером позолоченных девах со спокойно скрещенными на груди руками. И столько всякого видели за свой беспокойный век их пустые глазницы, что ничем видно не удивить сейчас этих красавиц-кариатид.
В соседней комнате недовольно скрипят пружины старого дивана под грузным телом женщины, которую не любила моя мать. Когда я пришел сюда в тот первый вечер, баба Нюра ничуть не удивилась. Она пыталась меня накормить – я только поужинал на лоне природы и отказался. Тогда старуха показала, где туалет и ванная, застелила кровать под балдахином и, уходя, сказала: – Живи здесь сколько надо.
И вот я живу здесь уже почти два месяца. Комната угловая. Два окна выходят на улицу и два – во внутренний дворик. Стены во дворе увиты виноградной лозой. Бельевые веревки никогда не пустуют. Днем играют дети, под вечер выходят посудачить соседки. Почти всех я уже знаю в лицо. Со мной здороваются, в глазах у женщин любопытство.
Так получилось с первого же дня, что баба Нюра готовит на двоих. Она давно на пенсии, и я не понимаю, откуда у нее средства на такие продукты: в доме постоянно свежая птица, дефицитные копчености, дорогое вино. Я пытался дать ей деньги с аванса, но она, глядя из-под мохнатых бровей сердитыми глазами, недовольно буркнула:
– Оставь, тебе самому сгодятся.
От моих уговоров решительно отказалась. Вообще-то, есть у меня и вопросы к ней на другую тему, но все не удается поговорить по душам. Она умеет резко, но не обидно, прекращать общение, так что разговора с ней никак не получается. Да и потом я боюсь, честно говоря, узнать от нее нечто такое, что осложнит мою жизнь, во всяком случае, не доставит мне никакого удовольствия. Кое о чем я и сам уже догадываюсь.
Она предложила мне перенести телевизор из комнаты, в которой я поселился, на кухню. Чтоб не мешать своим присутствием. Я пытался ее убедить в обратном, но куда там. Кухня просторная, почти как вторая комната. Пару раз смотрел вечером телевизор с ней вместе на кухне. Старуха не отрывает глаз от экрана, что бы там ни показывали.
***
Когда я вечером зажигаю в зале настольную лампу, здесь становится очень уютно. Стол ярко освещен, комната уже не кажется забитой вещами, их контуры теряются в полумраке. Правда, хорошо виден большой фотографический портрет на тяжелом секретере. Молодой мужчина в офицерской форме. Погоны с двумя просветами, одна аккуратная звездочка – майор. Три ордена, несколько медалей. Нашивка за ранение. Характерный прищур насмешливых глаз. Высокий чистый лоб. Короткая прическа. Чуть курносый. Хорошее открытое лицо, хотя и на чей-то взыскательный глаз его может несколько портить тяжелый подбородок. А как на мой простецкий вкус – так он всем хорош. Только не место ему на этом секретере. И вообще в этой комнате. Ведь это мой отец.
***
Вывеска над дверьми продмага № 33, что на углу улиц Говарда и 8-го Марта, менялась на протяжении его более чем вековой торговой деятельности неоднократно. В былые времена здесь располагалась «Мясная лавка братьев г.г. Козловых», коммерческие дела которых шли не очень: за недовес и продажу порченой продукции их «побивали неоднократно и даже костями». В годы нэпа здесь в поте лица своего трудился господин Майоркин, основавший популярное «Вечернее кафе». С тем же успехом, впрочем, его можно было назвать и «утренним», так как работало кафе всю ночь напролет, а публика, посещавшая его, бушевала вне зависимости от времени суток и славилась полнейшей непредсказуемостью поведения. Правоохранители избегали посещать это заведение, но, когда они решались на столь героические действия, улов их бывал иной раз весьма впечатляющ. И если в начале двадцатого века малюсенькими кульками с белоснежным турецким «марафетом» приторговывали, практически, во всех злачных заведениях припортового южного города, то крупные партии заморской валюты изымались исключительно в «Утреннем», по причине чего чекисты жестко отреагировали: закрыли сразу и неудачливого Майоркина, и его невезучее кафе.
После здесь верой и правдой служили трудовому люду такие звучные торговые заведения: «Бакалея», «Гастроном», «Гастроном и бакалея», а теперь простой и близкий сердцу каждого допущенного сюда покупателя «Продмаг № 33». Когда я говорю «допущенного сюда покупателя», то имею в виду конечно не тех простых смертных, которые имеют возможность украсить свой обеденный стол мороженным хеком или мойвой из этого магазина, а его целевую профессиональную группу потребителей -работников речфлота, за которыми закреплена эта торговая точка. Вот для них-то здесь есть все. Или почти все.
А домашние хозяйки любят этот магазин по другой причине. Здесь с незапамятных времен мясной лавки остался устойчивый запах мяса, хотя последние годы в открытой реализации оно появляется крайне редко. Этот запах каким-то загадочным способом сумел впитаться повсюду: в потолки и стены, в старые деревянные полы и оконные рамы, и сколько здесь не было ремонтов и перестроек – подлинное чудо! – стойкий аромат мясопродуктов никуда не исчезает.
Многочисленные покупательницы хорошо знакомы с этой особенностью Продмага № 33 и, стоя в длиннющих очередях, охотно позволяют себе чуток расслабиться: мечтательно прикрыть глаза и с удовольствием объять внутренним взором немыслимое изобилие вкуснейшей мясной снеди, давно и прочно забытой в незадачливом советском быту…
Ах, какая тогда чудная картина предстает перед ними: груды свежайшей парной свинины и говядины, дичь и птица, лоснящиеся жировыми росинками, роскошные потроха и другие разности, а над всем этим богатством – причудливые абрисы всевозможных копченостей, все то, что только может представить себе разбуженное этими запахами творческое воображение. Иначе ведут себя мужчины, по случаю забежавшие в винно-водочный отдел. Те, от атаки мнящихся запахов потенциальной закуски, пронзающих все их алчущее алкоголя естество, другой раз, даже зажмуриваются в неописуемом восторге, и, выходя с бутылками, невольно делают глубокий вдох, пытаясь подольше сохранить сытный дух в качестве возможной виртуальной закуски.
В моей смене работают три продавца: Валя-большая, Валя-маленькая и старшая смены – Альбина Петровна. Завмаг Зоя Никифоровна Вершкова из своего кабинета-каморки почти не выходит. Магазин работает с семи утра и до семи вечера. Я прихожу за полчаса до открытия. Подношу к прилавкам мешки с крупой и сахаром, ящики со спиртным и молочными изделиями, контейнеры с рыбой и вареной колбасой. В магазине большая камера-холодильник, несколько подсобных помещений. До открытия успеваем позавтракать. Стакан сметаны или сливок, двести граммов копченой колбасы, свежая булка. Разумеется, харч бесплатный. С 7 до 9 покупателей немного, затем поток заметно возрастает. После 12 количество покупателей снова уменьшается. За час до обеденного перерыва одна из продавщиц, по очереди, идет в подсобку готовить обед. Первое и второе. Для себя здесь не жалеют.
За день мне приходится разгружать от одной до трех машин. Быстро познакомился с экспедиторами. Вначале они внимательно наблюдали за каждым моим шагом, боясь и на минутку отойти в сторону и потерять меня из виду. Можно понять. Со временем стали мне доверять больше. Вино и водку со спиртзавода привозит толстый рыжий Сеня. Всегда небрит и улыбчив. Приезжает он пару раз в неделю. Имеет обыкновение после разгрузки вручать мне с добродушной хитроватой улыбкой «бомбу» с крепленым вином. Я тут же избавляюсь от нее – обмениваю у продавщицы на 2 рубля 60 копеек. Девчата знают, что я вернулся из заключения. На их лицах легко читается сочувствие. Сначала меня это злило, но потом перестал обращать внимание. Весь день здесь звучит: Вася, подай то, принеси это, тащи сюда еще что-то… Вначале мне тяжело давалось таскать мешки с мукой и крупами, но довольно скоро привык и втянулся. После того, как один водитель, седой грузный старик, участник войны, понаблюдал за моими мучениями и показал, как следует брать мешок, взваливать на плечо и равномерно размещать на трех спинно-плечевых точках.
В магазине ко мне относятся хорошо. Думаю, им нравится моя безотказность и еще то, что я не бухаю. До меня в этой смене грузчики пьянствовали напропалую и больше двух-трех недель не задерживались. Наверное, по нраву и то, что я не мозолю без дела никому глаза, не интересуюсь их делами и ни во что не вмешиваюсь. Когда я устраивался сюда на работу, завмаг Зоя Никифоровна перед тем, как подписать мое заявление для отдела кадров горторга, долго разглядывала мои документы, нерешительно тянула что-то, а потом твердо сказала:
– Конечно, вы человек с богатым интеллигентским прошлым, учитель и директор, но, говорят, тюрьма меняет людей… Я это к тому, что в нашем магазине у продавцов коллективная ответственность. Если кто-то ворует, за него платит вся смена. Дело поставлено здесь так, что каждый приглядывает за другими, а они – за ним. И не дай бог что-то скрысятничать! У нас есть свои способы наказывать провинившихся. Надеюсь, все, что я говорю сейчас – не про вас!
Мне это было не очень приятно, но пришлось молча с ней согласиться: профилактика никогда не бывает излишней…
Гл. 6
На прошлой неделе, когда я в брезентовом фартуке и грубых рабочих рукавицах что-то затаскивал в торговый зал, меня окликнули из очереди:
– Васек, дружище, ты ли это?
Невысокого роста мужчину средних лет, в низко надвинутом на лоб берете и с полупустой авоськой в руках, я узнал сразу. Вот имя его я, кажется, запамятовал… Этот человек явно из прошлой, лагерной жизни. Причем, за спиной его стояла история одновременно смешная и трагическая. Однажды в ходе доверительного разговора в зоне, он рассказал мне, что с ним случилось, и честно говоря, это меня просто потрясло. О, наконец-то вспомнилось его имя – Витя!
– Извини, брат, у меня сейчас запарка. Если у тебя есть время, подожди пяток минут, я выйду на улицу, поговорим. Ладно?
Я носил ящики с кефиром, рыбу, потом еще что-то по мелочи, а сам вспоминал. Какие только коленца не выкидывает с нами жизнь! Этот Витя работал, кажется, слесарем, имел нормальную семью, жену и двух ребятишек, жил спокойно и в достатке. Их бригадир в передовых традициях пытался сплотить свою бригаду, и почти каждую неделю практиковал совместные походы в кино, театр, на стадион. А однажды они даже сходили в музей современного искусства, и именно это посещение местной цитадели изобразительной культуры напрочь перевернуло Витину жизнь. Честно говоря, Витя не совсем, а еще честнее – совсем не разбирался в живописи и свое участие в культпоходе оправдывал только нежеланием отрываться от коллектива. Ребята разглядывали картины, вполуха слушая экскурсовода, смеялись над непонятным, шумно переходили из зала в зал. Витя плелся в самом конце, мечтая хлебнуть, наконец, пивка из томящейся в его небольшом дипломате бутылки и мучительно понимая, что сделать это в музее невозможно. Экскурсия близилась к завершению. С каждой минутой укреплялись Витины надежды. Но в последнем зале видимо что-то случилось. Веселый шум постепенно затих, все сгрудились напротив какой-то большой картины. Вите за головами товарищей ее не было видно. Сначала все с любопытством разглядывали картину, потом стали недоуменно переглядываться, затем враз обернулись к Вите, и только тут он увидел это полотно. В центре его был изображен роскошный диван с узорчатой спинкой и гнутыми ножками, а в левом углу находилась небольшая изящная тумбочка, на которой радовала глаз высокая хрустальная ваза с нежными кремовыми розами. При всех своих явных достоинствах эта картина вряд ли могла серьезно тронуть неискушенное искусствоведческими изысками воображение и Вити, и его товарищей, если бы на ней… Если б на диване не лежала в крайне раскованной позе молодая цветущая женщина. Полностью обнаженная, с опущенным на кисть правой руки миловидным лицом, она глядела на зрителей так, что каждому казалось, будто взгляд ее доверчивых, широко распахнутых глаз, направлен именно на него. Длинная русая коса змеилась по хорошо развитой груди, познавшей прелести материнства, и в своем поступательном движении почти достигала яркой ковровой дорожки. Но и это было еще не все. С картины, глядя прямо в глаза, на Витю вызывающе смотрела его жена.
У него невольно екнуло в сердце: это было не просто сходство, а что-то совсем другое. Ее прекрасно знали Витины товарищи. Она работала медсестрой в их заводском медпункте. Наверное, поэтому все так притихли. Сначала Витя никак не мог осознать увиденное. Пугало, что жена осталась с детьми дома, и вот на тебе – она тут… Он не мог оторвать глаз от картины: ее нос, губы, волосы… А как ему знакомы эти полные колени и даже привычка чуть скрещивать ноги, лежа на боку. А где родимое пятно на груди? Вот же – прикрыто косой…
Экскурсовод, обрадованный тишиной, с воодушевлением продолжал:
– Я вижу, вам понравилось это произведение искусства, товарищи, и это безошибочно доказывает, что у вас хороший вкус. Такую благоговейную реакцию обычно вызывают только встречи с прекрасным. Эту радость вам доставила кисть молодого, но подающего большие надежды местного художника Кривосуйко-Лещика, а называется картина «Полуденный отдых незнакомки». Правда, по каталогу она числится под другим названием: «На заре ты ее не буди», но это явная ошибка. Ведь каждому видно, что женщина, изображенная здесь, бодрствует. И честно признаемся, друзья, – прибавил он с гнусной ухмылкой, – заставляет бодрствовать и нас…
Очевидно, такая оплошность случилась потому, что начинающий мастер представил к экспонированию в музее более трех десятков работ, из которых комиссия по причине нехватки места в залах выбрала именно эту. Мы позвонили товарищу Кривосуйко-Лещику и указали на несоответствие названия фактуре, на что он ответил, что согласен с любым названием, лишь бы картину представили к показу. Не правда ли, так расточительно может относиться к своему детищу только большой художник?
Бригада стала потихоньку выходить из зала, оставив Витю наедине с супругой. Когда все вышли, он внезапно осевшим голосом попросил экскурсовода дать ему домашний адрес художника.
– Зачем он вам, молодой человек? – удивился тот, протирая несвежим носовым платком массивные роговые очки.
– Я… хотел бы ее купить… – с трудом выдавил из себя Витя. Они направились в комнату администрации, где экскурсовод долго копался в каких-то папках, пока не нашел, наконец, искомое.
– Записывайте, голубчик, – пропел он. Витя одолжил листок бумаги, записал, вежливо попрощался и ушел.
С этого момента у него началась новая жизнь. На заводе товарищи только переглядывались, о случае в музее помалкивали, мало ли что бывает, просто удивительное сходство и только. Теперь после работы Вите не хотелось идти домой. Он стал выпивать. В нагрудном кармане лежал и прожигал сердце листок с адресом, но идти к художнику выяснять отношения не хотелось. О чем с ним говорить? Как с ним говорить? На всякий случай, он еще раз зашел в музей. После бутылки вина. Смотрел. Долго. Конечно, это она. Сомнений быть не может. К картине постоянно подходят, рассматривают, интересуются: кто это? А как ухмыляются двое прыщавых юнцов! Было больно так, что не передать словами. Жена смотрела на него с картины спокойными, чуть отстраненными глазами. Крепкое тело ее вызывало у посетителей, как ему казалось, нездоровое внимание.
Теперь с женой он дома почти не разговаривал. Она, не понимая в чем дело, пыталась вызывать его на откровенность. Он замыкался в себе и молчал. Спать стали врозь. Она часто плакала.
Через пару месяцев Витя не выдержал и в пьяном виде наведался домой к художнику. Большой художник оказался маленьким плотным человечком в очках с облезшей металлической оправой и потертых джинсах. Он никак не мог взять в толк, что Вите нужно, и на всякий случай почему-то повторял, что деньги, взятые в долг у какого-то Зюни, он почти все вернул, телевизор у него из пункта проката, и изымать его в счет долга по закону не положено. Кстати, задолженность у него не пять лет, как у соседей, а всего десять месяцев, и вообще это хамство немыслимое – присылать человека и отрывать мастера от творческой работы…
Судя по веселым возгласам и громкой музыке, доносившейся из квартиры, эта работа спорилась и без его присутствия. Художника несколько раз окликали, и он стал пытаться закрыть обшарпанную дверь своего жилища. Ему очень хотелось вернуться в свою комнату, где только – только приступили к хоровому пению. Пели недружно, вот тут-то и стало ощущаться отсутствие хозяина.
Чтобы не затягивать неприятную историю дальше, Витя наглядно проявил свой характер, и на вопли хозяина из квартиры выскочил волосатый поджарый хлопец с повадками уличного громилы. Он оттер Кривосуйко-Лещика внутрь и стал хватать непрошеного гостя за грудки.
Через полчаса, когда Витя уже попал в милицию, дать каких-либо вразумительных пояснений своему поведению он не смог. Не начинать же рассказывать о коллективном походе в музей…
Бригада пыталась взять его на поруки, но из этого ничего не вышло по причине перебитой челюсти пострадавшего. К сожалению им оказался не мерзавец Кривосуйко-Лещик, успевший в последний момент укрыться в туалете, а его заступник, оказавшийся сыном начальника городского управления культуры. Возмущенная творческая общественность требовала достойно наказать злобствующего хулигана. Жена на суд не пришла. Вите дали два года.
***
Окончив работу, я вышел. Витя терпеливо ждал у входа. Мы закурили.
– Ну, рассказывай, как дела? – предложил он.
– Дела как дела, вот, тружусь помаленьку.
В зоне мы особенно близки не были, просто Витина история в свое время была у всех на устах.
– Давно откинулся? – поинтересовался Витя.
– Два месяца назад. А ты, помнится, освободился почти на год раньше…
– Не на год, а на полтора. Знаешь, как на свободе каждый день ценится? А ты мне целых полгода хочешь скостить!
– Да не бери в голову, расскажи лучше, как тебе удалось устроиться. Гляжу: ты нормально одет, прекрасно выглядишь, вот только жирком стал чуток заплывать… Ну и, как ты на воле, дружище?
– Да все путем, живу, что надо. Работаю в той же бригаде. Мы с Клашей понимаем друг друга, у нас полный порядок.
Имени его жены я не знал и поэтому осторожно поинтересовался:
– Давно женился?
– Да уже пятнадцать лет! – радостно воскликнул Витя, – это ж моя ненаглядная!
Чувствовалось, что он очень доволен жизнью и своим счастьем готов делиться с каждым.
– Каким же я дураком тогда оказался! – продолжал Витя. – Когда вернулся домой, рассказал Клаве все как есть: и про музей, и про квартиру. Она мне сначала не поверила. Быть, говорит, такого не может. Я же никогда никому не позировала. Просто чепуха какая-то!
Она, оказывается, думала тогда, что я с какой-то связался, стал поэтому пить, пустился во все тяжкие. Даже поклялась мне – не она на картине. Собой и детьми поклялась. И знаешь, я все равно ей не поверил. Кто сам признается? – думаю. Да вот случай помог. Теперь я ей очень даже верю. Никаких сомнениев нет!
– Что же это за случай? – заинтересовался я.
– Понимаешь, в первое время после освобождения я у матери жил. Заходил, конечно, к Клавдии, с ребенком общался, а сам все сомневался. И ее вроде люблю, и по сынишке томлюсь, а в душе веры к ней нет – и все тут. В общем, понял: пора решать, дальше так нельзя. Или туда, или сюда. Надо это кончать, думаю, все равно жизни у нас уже больше не получится. И чтоб в решении своем утвердиться, решил снова в музей сходить, поглядеть на копию моей Клавдии. Прихожу – картины нет. На ее месте какая-то ерунда висит: доярка с чужим лицом корову дергает… за эти самые. Все залы исходил – как сквозь землю она провалилась! Собрался я было уже уходить, когда вижу – экскурсовод идет. Тот самый, и в тех же мутных очках. Поздоровался я с ним, а потом возьми и спроси: где же картина та?
– Какая это – та?
– Ну, та, на которой Клаша была нарисована, она еще вот тут, на месте этом висела.
Гляжу на его рожу удивленную, и тут меня будто прорвало: взял, да и все ему рассказал.
Ты б видел, Вася, как он потом смеялся! Я уже было стал бояться, что его удар хватит. Люди проходят мимо – на нас озираются, а с ним приступ, буквально. В общем, отдышался он, наконец, и с фальшивым укором говорит:
– Ах, молодой человек, молодой человек… Вы уж простите меня, старика, за мой глупый смех, но хоть теперь постарайтесь понять всю дикость вашей истории. Вам сейчас очень повезло: я по профессии – искусствовед, имею труды в этой отрасли и, слава богу, в чем – чем, а в живописи немного разбираюсь. Так вот, поверьте моему слову: скорее рак свистнет, чем мазила Кривосуйко-Лещик передаст в своей стряпне хоть малейшее сходство с натурой. Он же бездарен, как засохший фикус! У него даже коза на себя похожа не будет… Так что можете быть уверены, даже не на сто, а на двести процентов, – в вашем случае сходство совершенно случайно! Да знаете ли вы, каким мастером нужно быть, чтобы добиваться полного совпадения изображения на полотне с оригиналом?! Поймите же, наконец, что мы живем не в семнадцатом веке, а в двадцатом, когда от таких мастеров лишь легенды остались. И чудные картины… Так вы говорите, – перешел он к другой теме, – что ваш Лещик в туалете спрятался? Не пострадал, значит?
Сказал он это, и давай хохотать снова. А у меня после этого всю блажь по поводу Клавки – как рукой напрочь отшибло…
Гл. 7
Однажды, придя с работы домой, Василий Иванович застал бабу Нюру необычно оживленной.
На кухонном столе в хрустальной вазе нежился букет роз.
– Приведи побыстрее себя в порядок и переоденься – мы идем на день рождения! – безапелляционно заявила она.
– К кому? – спросил Василий Иванович.
– К соседке со второго этажа.
Пока Василий Иванович брился, хозяйка из своей комнаты рассказывала ему об имениннице.
– Девка она хорошая. Тихая, безотказная, надежная… Правда, в жизни ей не повезло. Получила хорошее образование, стала врачихой. Но муж таким гулякой оказался, что только с ее характером и терпеть его можно было. Пропадал, шатун, из дому на три – четыре дня, а то и на всю неделю, и ничего – в порядке вещей. А заявится домой, помятый да худющий, как мартовский кот, и на весь дом вопиет: