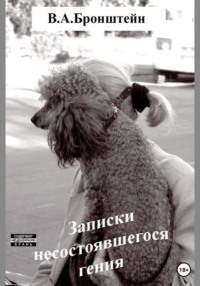Полная версия
Невезение. Сентиментальная повесть

Виталий Бронштейн
Невезение. Сентиментальная повесть
Гл. 1
За окном вагона в зыбком пыльном мареве тяжко повис полуденный зной. Два толстяка – по внешнему сходству отец и сын – с трудом забив оба багажных отделения своей кладью, синхронно плюхнулись на сиденья, облегченно вздохнули, одновременно достали мятые носовые платки, дабы утереть обильно лоснящиеся от пота лица, и с большим вниманием посмотрели друг на друга. Не было сказано ни слова, но степень взаимопонимания между ними была абсолютной: в руках отца тут же оказалась авоська, из которой он удивительно вкрадчивыми и плавными движениями стал доставать разные свертки и кулечки. Сын, круглощекое дитя лет двенадцати, трепетно наблюдал за действиями папы.
Василий Иванович, деликатно сидевший на самом краешке скамьи, с трудом заставил себя отвести глаза от аппетитных яств, появившихся на столике. Напротив сидела дама с развернутой газетой. Василия Ивановича привлекло название: «Советская торговля». Посмотрел на попутчицу внимательнее. Неброский светло-бежевый хлопчатобумажный костюм с импортным ярлычком на правом нагрудном кармане, легкие плетеные босоножки. На шее золотая цепочка-паутинка, увенчанная камеей, на узорчатой агатовой основе которой выделяется белый, из кости, профиль греческой красавицы, обрамленный вьющимися прекрасными волосами. Колени загорелые, полные, без единой складки, чуть расставлены. Руки ухоженные, свежий маникюр, едва уловимый в духоте купе аромат дорогих духов. Возраст 27 – 28.
– Соседушка, ножика у тебя нету? – тонким фальцетом обратился к Василию Ивановичу полный гражданин. Голос явно не соответствовал его комплекции.
– Извините – нет, – с невесть откуда взявшейся угодливостью ответил Василий Иванович и даже руками развел: дескать, не виноват, вы уж простите…
– Что ж, обойдемся и так, – на этот раз обращаясь к сыну, сказал папаша и стал руками ломать вареную курицу. Птица поддавалась плохо. Было похоже, что она еще не оставила надежду улететь. Короткопалые кисти с 1трудом вцеплялись в скользкие птичьи конечности. Сын напряженно следил за обливающимся потом, тяжело дышащим отцом.
– Если можно, чуть поосторожней… – негромко попросила дама, – брызги по всему купе летают…
– Какие еще брызги, – недовольно произнес гражданин, – разве не видите…
В этот момент курица, наконец, выскользнула из его рук и совершила свой последний полет – вначале ему на брюки, а затем, мягко, на пол. Через мгновение она была извлечена из-под столика, тщательно обследована, но, увы, проводник уборкою вагона себя не утруждал. Толстяк засопел и, стараясь избегать взглядов попутчиков, стал усиленно протирать подвернувшимися клочьями бумаги загрязненные места. Дама по-прежнему читала газету, однако брови тонко подняла и губы чуть скривила, надменностью своей показывая, что она полностью солидарна с непокоренной курицей.
Василий Иванович непроизвольно сглотнул, тихонько встал и притворил за собой дверь купе. В тамбуре достал полупустую пачку «Примы» и, глядя в замутненное пылью окно на унылый степной пейзаж, закурил измятую сигаретку. Хлопнув дверью, появился солдатик, равнодушно скользнул взглядом по Василию Ивановичу, извлек из парадного кителя изящную коробку «Космоса» и расположился напротив.
– Отпускник, – подумал Василий Иванович. Вспомнилось, как много лет назад он так же возвращался домой, проклиная тесный удушливый мундир, насквозь промокший подмышками; тяжелые сапоги, от которых назойливо тянуло освободить распаренные розовые ноги. Поди ты – столько прошло лет, столько лет, а летняя солдатская форма почти не изменилась, разве что, ввели сорочки цвета хаки с темными галстуками; но все такая же суконно-плотная, тяжелая, несносимая. И стоит немалых денег, а зачем? Ее что, 10 – 15 лет носить, что ли… Ведь она на каких-то 2 – 3 года, разве нельзя на такой срок чего-нибудь полегче да попроще? Об офицерах и прапорщиках позаботились: они летом довольствуются легонькими туфлями да сорочками с погончиками, а солдатику и так сойдет…
От нечего делать, он ознакомился с маршрутным листом поезда, висевшим рядом с дверью купе проводника. Предстояло проехать 28 станций. К месту назначения поезд должен был прийти к 11 утра завтра. Во рту неприятно першило от дыма дешевых сигарет, деньги какие-какие были, и он решил сходить в вагон ресторан.
Когда минут через 40 он вернулся, в купе произошли некоторые изменения. Дама переоделась. Ее простенький, но удивительно ладно сидевший халатик искусно подчеркивал все, что можно и нужно было подчеркнуть. «Советская торговля» была заменена серым томиком «Триумфальной арки» Ремарка. Дама стала вызывать интерес. Семейство, пережившее злые козни наглой птицы, после обильной трапезы выглядело умиротворенным. Правда, появилось ощущение, что при его появлении в купе попутчики несколько насторожились. Впрочем, это, скорее всего, только показалось.
Василий Иванович не мог знать, что спустя некоторое время после его ухода гражданин сказал, обращаясь неопределенно, то ли к сыну, то ли к даме, то ль к ним обоим вместе:
– А товарищ-то, судя по внешнему виду, кажется – того… Надо бы с ним поосторожнее. Ты, Леха, не забывай за вещичками приглядывать – целее будут…
Василий Иванович аккуратно выставил на уже прибранный столик четыре бутылочки «Пепси-колы», захваченные с собой из вагона-ресторана, предложил попутчикам угощаться. Отец и сын посмотрели друг на друга.
– Спасибо, – отводя глаза, сказал старший, – мы, пожалуй, воздержимся…
Дама отложила книгу, открыла большую кожаную сумку, вынула два складных пластмассовых стаканчика, пробочник. Терпкий напиток приятно освежал. Лицо женщины выглядело по-домашнему мягким. Отец с сыном по очереди отводили глаза от двух еще не распечатанных бутылок, затем их взгляды встретились.
– Мы, пожалуй, присоединимся, – тяжело вздохнув, сказал папа. Он встал, достал что-то из кармана висевшего пиджака и положил на стол. Перед Василием Ивановичем лежала металлическая рублевая монета.
– Так мне и надо, – подумал Василий Иванович. Ему было неудобно перед женщиной.
Отец и сын пили жадно, причмокивая. Допив свои бутылочки, облегченно отвалились.
– Да, – заговорил отец, – такая жара, а мы едем, едем… Это ж надо – ехать в такую спеку!
Разговора никто не поддержал, но мужчина был настроен на общение.
– А куда деваться, коли нужно ехать, продолжал он, – мы ведь нашу мамку ворочать едем.
– Она в больнице? – поинтересовалась женщина.
– Почему в больнице? – встревожился он, – дома она осталась. Небось, как мы с Лехой, по жарюке сейчас не плентается…
– Как же это вы ее возвращать едете, если она дома вас ждет? – недоуменно спросила дама, отложив книжку в сторону.
Психологическое состояние человека в условиях дальней дороги имеет свои особенности. Атмосфера вынужденного безделья, монотонный стук колес, да уверенность, что с попутчиком судьба нас больше никогда не сведет, усиленно располагают к общению, и люди в пути часто не стесняются говорить о самом сокровенном.
Подбадриваемый заинтересованными взглядами попутчиков, мужчина рассказал о том, что у него, как он выразился, «маленькая неприятность». В своем селе он пользуется уважением, как человек со всех сторон положительный. Не пьет, не курит, работает кладовщиком в совхозе. Зарплата, сами понимаете, не ахти какая, но хозяйство он завел «справное» и материально «не страдает». Дружбу водит не абы с кем, а с людьми серьезными. И, загибая толстые, с аккуратно обрезанными ногтями, пальцы, стал перечислять: председатель сельсовета, живет по соседству – первый друг. Правда, он выпивает, но это на службе. Дома же, по вечерам – ни-ни, а самоварчик, лото и шашечки. Другой друг – завгар, тоже сосед. Этот по вечерам политикой увлекается, газетки читает, он их целых три подписывает. Поговорить с ним – интересней нету.
В их же компании и местный батюшка, отец Андрей, поп паршивый – он то и заварил всю эту кашу, которую теперь никак не расхлебать.
При этих словах отец украдкой взглянул на сына и, убедившись, что мальчик отвлеченно глядит в окно, продолжил свой рассказ.
Оказывается, две недели назад жена сказала ему такое, что его сильно удивило. Что он, ее законный муж, человек скучный, неинтересный, мол, у него на уме только огород, свиньи, гуси да прочая живность, а ей на это категорически наплевать: не для того она в свое время десятилетку окончила, не в пример мужу – грамотная, и у нее теперь совсем другие интересы. Какие это интересы – он понял, когда Зинка на другой день собрала свои бебехи, прихватив попутно, пока он был на работе, мебельный гарнитур, два ковра, телевизор и холодильник, подогнала к хате КАМАЗ с несколькими сельскими пьяницами, погрузила все это в кузов и шустро двинула прямиком домой к холостому батюшке.
А взамен, пакостница, оставила на видном месте, в центре голого обеденного стола такую мерзкую записку: «Судьба позвала меня к другому. Вещи наживешь. Зато оставляю тебе самое дорогое – нашего Леху, больно уж он на тебя похож. Не кручиньтесь, живите счастливо. Я постараюсь тоже. Зинаида».
Дома пусто, скотина некормлена, сын в пионерлагере, а председатель сельсовета, тоже еще друг называется, только репу чешет да изгаляется:
– Все что ни делается – к лучшему, и так село, почитай, уже года три смеется, только ты один ничего не ведаешь.
А я ему говорю:
– Ты же – власть, неужели нет управы на развратного попяру? Он же церкви отец, а не какой-нибудь управляющий отделением, ему положено высоко моральным быть, а не чужих женок блядовать!
– Что я ему за власть, – отнекивается председатель, – ты разве не знаешь, что у нас церковь отдалена от государства? Иди лучше сам к нему, поговори по душам, глядишь – и общий язык найдете! При общей жене найти общий язык – дело плевое…
Ну, я к попу, конечно, не пошел, буду еще перед каждым христопродавцем унижаться, дам ему лучше бой по всем правилам: открою глаза на подлого блудника в рясе областному церковному начальству.
В общем, решил я ехать в город, сходить в храм к благочинному да спросить его: как там, правда ли у них не принято «возлюбить жену ближнего своего» или это не про попов писано?
Приезжаю в Херсон, иду через рынок и вижу: продают новенькие ученические формы. Скоро начало учебного года, как тут не сделать сыну подарок? Подбираю размер, даю деньги, и мне ее заворачивают в такой нарядный пакетик, с голубой ленточкой – загляденье просто!
Жду почти час приема у владыки, кругом снуют попики благостные, наконец, захожу. Кабинет у него небольшой, мебели всего ничего: письменный стол у окна, ближе к двери маленький столик о двух креслах. Поздравствовались, усадил он меня в кресло, сам устраивается напротив:
– Зачем пожаловали?
А мне неудобно: руки заняты, ну я и кладу свой пакет на столик. Тут батюшка глазами по сторонам зазыркал, шипит:
– Не сюда, не сюда… – сам вскакивает, хватает пакет, прижимает к груди и – бегом к письменному столу, засовывает его в нижний ящик поглубже.
Начинаю рассказывать свое дело, а у самого в голове совсем другое: зачем это, думаю, спрятал он Лехину форму?
Короче говоря, форму у него я таки забрал, но и разговора у нас не получилась. У попа лицо побагровело, вроде его удар хватил:
– Уходи, – замахал он руками, – нечестивец, с делами блудодейскими своими, изыди, сатанинское племя!..
Вот и понял я, что трудно найти правду в наше время, но ничего, едем мы теперь с Лехой к самому митрополиту в Одессу, расскажем, как наши попы над людьми измываются. Своего добьемся, а когда отца Андрея в три шеи выгонят, то и Зинка никуда не денется – как миленькая вернется. Правда – она себя всегда покажет!
Отец и сын снова просмотрели друг на друга. На этот раз веско, с осознанием важности возложенной на них благородной миссии, как смотрят люди, готовые на любые жертвы и неприятности во имя своих высоких убеждений.
История, прозвучавшая в купе, напомнила Василию Ивановичу что-то очень знакомое и давным-давно слышанное. Нечто похожее, он в этом почти уверен, ему уже где-то рассказывали. Только там, кажется, речь шла не о священниках. Ага, вот оно что… Внезапно он вспомнил, ясно и отчетливо, Оксанину балку – и какое она произвела тогда на него жуткое впечатление. Да, определенное сходство есть. Правда, там все закончилось куда трагичнее.
– Чего только не бывает на свете… – задумчиво сказала дама, вновь раскрывая книгу, – а вы не допускаете, что они просто любят друг друга, возможно, разумнее оставить их в покое?
– Не покой им, а – заупокой! – оскорбился полный гражданин.
– Мне когда-то рассказывали историю, очень напоминающую вашу, – промолвил Василий Иванович. – Так там, действительно, все закончилось заупокоем…
Дама вопросительно посмотрела на него. Толстяк глядел недоверчиво-выжидающе, и Василий Иванович решился.
– Раньше мне довелось работать в одном селе, Понятовке, которое находится километрах в тридцати от города. Хорошее такое село, ухоженное, и люди в нем добрые, отзывчивые. А рядом с ним – другое, Орлово, немного поменьше. Между селами – неглубокая балка. И слышу я все время от местных жителей: Оксанина балка; перейдите Оксанину балку; там, за Оксаниной балкой… Короче, заинтересовался я – почему эта балка так называется? Кто она, эта неизвестная мне Оксана?
И узнал вот что. Много лет назад жила в Понятовке одна молодая семья. Жена – Оксана, муж – имени его уже не помню, кажется, Григорий, и маленькая дочка. Оксана – рассказали мне – настоящая русская красавица, высокая, статная, с тяжелой русой косой. Говорят, у нее были удивительно красивые голубые глаза с так редко встречающейся нежной поволокой, сквозь которую иногда проскакивали насмешливые ярко-серые искорки. Ее муж ничем особым не выделялся, был молчалив и, как многие другие молчуны, немножко себе на уме. В общем, нормальный парень, из зажиточной семьи, трудолюбивый, физически крепкий. Хотя прозвище у него было не очень благозвучно, а ведь сельские «кликухи» часто являются краткой характеристикой человека. Его называли «Никчема».
На вторую неделю войны он был призван в армию. Уже в августе эти места были под немцами, а в октябре Гриша неожиданно вернулся домой. Оказывается, в первом же бою он сдался немцам, попал в плен. Там его быстро определили: не шибко развитый, вялый, вполне безобиден, никаких убеждений не имеет, а желание только одно – поскорее вернуться домой. Таких пленных, если они были родом с территорий, оккупированных фашистами, в то время просто отпускали домой – пускай идут, работают на рейх… Отпустили и его.
Словом, идет по селу счастливый Гриша в полувоенной одежонке, давно небритый, с жалкой котомкой, здоровается с людьми и видит, что народ на него смотрит как-то не так. Решил выяснить в чем дело. Подошел к старикам, заговорил с ними, спросил. А они мнутся, молчат. И стало ему тревожно, глядит на них с укором: что ж вы молчите-то, братцы, разве я вас чем прогневил?
И тогда сказали ему люди: так и так, Гриша, в твоем доме на постое немец живет, помощник коменданта, по фамилии – Шульц, по имени – Отто, ну а, если честно, то меж ним и Оксаной, наверное, что-то есть. В общем, смотри, будь поосторожней…
Пришел он домой, стучит, открывает дверь мужчина в галифе, сапогах и белой нательной сорочке, через плечо полотенце, одна щека намылена, в руке бритва. – Что есть вам? – спрашивает. Ну, Гриша, значит, объясняет, что он – хозяин этого дома, пришел с войны. Немец по-русски видно понимает. Выслушал, сказал только одно слово: – Документ?
Показал Гриша свои бумажки, немец внимательно рассмотрел их и, ни слова больше не говоря, отодвинулся от двери, освобождая проход.
Оксана встретила мужа без особой радости, ночью постелила себе отдельно. Утром за завтраком Гриша получше рассмотрел немца: мужчина так себе, незавидный, среднего роста, с наметившимся брюшком, постарше их с Оксаной – лет под 40. офицерская форма сидела на нем мешковато, очки наверное потели – все время протирал их платочком. После, от людей он узнал, что немец неплохой, к народу не злой, все больше стремится действовать уговором, был до войны агрономом.
Теперь Григорий целыми днями сидел дома, выходить на люди избегал, пытался играть с трехлетней дочуркой-несмышленышем.
За немцем по утрам заходила машина, привозила вечером. Шульц ласково трепал за щеки девочку, совал ей шоколад, она к нему тянулась. Ночью Григорий слышал скрип дверей, вкрадчивый шепот. Оксана ночевала на половине немца, почти не таясь, в разговоры вступать с Гришей не хотела. Так прошел почти месяц, будущее казалось ему безысходным, что-то надо было делать и, наконец, он решился. Никчема пошел в город. Там он с большим трудом попал на прием к коменданту, рухнул ему в ноги:
– Господин комендант, я к вам, как к отцу родному…
Его будто прорвало. Он рассказывал, захлебываясь и сбиваясь. Переводчик не успевал переводить. Когда Григорий окончил, комендант встал, подошел к окну и, глядя на улицу, сказал несколько слов. Переводчик объяснил, что Гриша может идти домой, спокойно жить со своей женой, добросовестно работать на благо великой Германии, а помощник коменданта по Белозерскому району за связь со славянкой будет наказан.
Никчема никак не мог поверить своему счастью, но знал, что немцы слово держат. Действительно, на следующий день Отто Шульца вызвали в город, приехал он мрачный, долго говорил о чем-то с Оксаной и в тот же вечер съехал с их дома.
Никчема с нетерпением дожидался ночи, но Оксана его к себе не пустила. Немец снял квартиру по соседству. Жена стала редко ночевать дома. Их связь продолжалась.
Пришла зима. Стояли морозы, когда Никчема снова пошел на прием к коменданту. На этот раз тот был сильно разгневан и несколько раз повторил одно и то же: – Нах дем фронт! Нах дем фронт!
На следующий день к ним пришел Отто и, не заходя в дом, позвал Оксану. Она вышла. На улице было холодно, и Никчема из окна тайком наблюдал, как они о чем-то взволнованно говорили. Отто был явно угнетен. Сердце Григория радостно билось: что, немчура проклятая, доигрался? Будешь, гад, знать, как чужих жен блядовать!
Настроение подпортило увиденное в конце их беседы. Оксана, перед тем, как уйти, прижалась к немцу всем телом, и он даже был вынужден нежно, но решительно, ее от себя отрывать.
Войдя в дом, Оксана обошла мужа, как какую-нибудь вещь, не замечая его. У нее были воспаленные сухие глаза. Григорий видел, как она переодевалась в своей комнате. Она надела лучшее платье, повязала подарок матери – дорогую шаль и достала из сундука белый полушубок, который тщательно хранила и одевала крайне редко. Во дворе ее ждал Отто.
– Куда ты? – спросил Никчема. Она вышла, не отвечая. Никчема подошел к окну. Оксана и Отто медленно шли по направлению к балке. Шел мелкий колючий снежок. За ними тянулась редкая цепочка мелких следов. Быстро темнело. Когда Никчема ставил на плиту чайник, издалека донеслось несколько выстрелов. Ночью он не спал, выйти боялся. Несколько раз заходил к спящей дочери. Ребенок мерно сопел влажным носиком, разметав ручонки по одеялу. В доме было жарко.
Их обоих нашли в балке утром. В ее руке был офицерский «Вальтер». По-видимому, первым застрелился Отто, за ним – она.
Что можно сказать в заключение этой истории? Люди, сочувствовавшие раньше Григорию, стали его презирать. После войны он несколько лет отсидел, затем снова вернулся в село, женился. Дочь, как только подросла, уехала от него подальше. Я видел этого Никчему в семидесятые годы. Сутулый нелюдимый старик. Работал, по-моему, на разных работах. Общаться с ним все избегали. Вторая жена его тоже оставила. Доживал в глухом одиночестве. Вот такая история. А балку, где нашли свой конец влюбленные, стали со временем называть – Оксаниной.
Гл. 2
Солнечным погожим утром по перрону небольшого южного города неторопливо шел мужчина высокого роста со старым фибровым чемоданом. Худощавый, с крупным удлиненным лицом, что подчеркивала короткая прическа, в сером неприглядном пиджаке с чуть коротковатыми рукавами, хотя здесь, на юге, мужчины в это время года носили лишь легкие сорочки, он шагал, разглядывая обычную вокзальную суету, торгующие киоски, очередь у бочки с пивом, спешащих куда-то людей.
Это был обычный будничный Херсон, город, который часто снился ему, когда он его покидал: три года в армии и четыре года… не там, где надо. Это о нем писал он, поступая в пединститут, сочинение на свободную тему, назвав его:
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ».
Утром и вечером, днем и ночью, летом и зимой неторопливо катит свои тяжелые валы задумчивый Борисфен.
Кто сказал, что нет на свете вечного двигателя?!
Вот он, вечный двигатель, перед вами: ни на секунду не прекращающий свой размеренный бег на протяжении дней и недель, месяцев и лет, столетий и тысячелетий…
И если, действительно, движение – есть жизнь, то он – поистине бессмертен.
То, что видел наш Днепр, чему был безучастным свидетелем – нам не дано знать, и лишь в толстых учебниках истории описано то, что он сам захотел вспомнить, но нет и слова о том, чем был он столь возмущен, что решил об этом навеки забыть…
Он жил сам и давал жить другим: кормил и поил бесчисленные поколения наших предшественников, давно растворившихся в призрачной дымке исторического небытия.
Его глубокие чистые воды по-прежнему вкусны и прохладны, но вот заборы для питья сегодня ведутся лишь в нижних зеленых толщах, потому что у берегов его влага ощутимо солоновата.
Многие считают причиной тому – горькие слезы беззащитных полонянок, угоняемых тысячами от родных белых хат в татарские и турецкие гаремы, а может быть, миллионов невинных жертв уже нашего времени: опухших селян, забытых пасынков гибельных лет, принявших в тридцатые годы ужасные муки голодной смерти…
Мудрые люди говорят: хочешь жить долго – прикоснись к вечности!
И вот уже более двух столетий к Днепру прикасается, вернее, расположился на его берегах мой город.
Херсон бессмертен, как и бессмертны в веках его жители, возведшие город-сад на берегах вечного Борисфена! Они давно усвоили главную истину жизни городов и людей: «Как светлое утро всегда сменяет ночь, так после плохой погоды обязательно приходит хорошая!»
***
Под расстегнутым пиджаком мужчины, идущего по перрону, виднелась чистая, хотя и не новая, сорочка, бывшая когда-то голубой, а теперь выцветшая, как вещи, годами хранящиеся без носки, приобретя светло-пепельный оттенок. Присмотревшись, можно было заметить, что седина волос этого человека имеет странный характер: она была неравномерной, а как бы легкими пятнами, отчего голова казалось пегой. Небольшие залысины не бросались в глаза, лишь подчеркивая высокий с двумя поперечными морщинами лоб. На небритом лице выделялись четко очерченные чуть поджатые губы. Серые глаза смотрели на мир настороженно, а тяжелый волевой подбородок придавал его облику значительность.
Несмотря на нынешний несколько потертый вид мужчины, можно было допустить, что когда-то он знавал и лучшие времена.
На привокзальной площади в группе людей, ожидающих такси, он заметил свою попутчицу – даму в светло-бежевом костюме. Их взгляды встретились. Он прошел мимо, направляясь к троллейбусной остановке, не заметив, что она проводила его внимательным взглядом.
Итак, он дома. Впрочем, дом для него отныне понятие относительное. Этого дня он ждал четыре года. Самые нелегкие годы его жизни. С виду здесь ничего не изменилось: те же дома, деревья, люди, памятник на площади. Но он уже не тот. Это факт. И вернулся, увы, не туда.
Конечно, самое простое – сесть в троллейбус, проехать – сколько там? – шесть остановок и пройти один квартал к трехэтажному дому напротив маленького ухоженного скверика. Подняться на второй этаж, открыть знакомую дверь лежащим в брючном кармане ключом. Побриться, принять ванну, насухо обтереться горячим душистым полотенцем, почувствовав тяжесть мышц и свежесть только что вымытого тела…
Хватит! Нечего себя без толку растравливать. Там тебя давно не ждут. Мать умерла через несколько месяцев после того, как с ним это случилось, а жена – разве не знал он, что его Валя не из тех, кто ждет? Сейчас у нее другая жизнь.
– Новая жизнь, с новым мужем, в старом доме, – мысленно скаламбурил он. Ничего. Главное – он жив, здоров, в родном городе, а все страшное – позади. И как хорошо, что Валя не хотела иметь детей. Иначе это бы серьезно осложнило его жизнь сегодня. Чувствовать, что у тебя есть ребенок, но воспитывает его кто-то другой… Не приведи Господь!
Положение на сегодняшний день вполне терпимое. Какие-никакие силы еще имеются. Есть опыт, знание жизни – он сумеет начать с ноля.
Этот день, день приезда домой, он прокручивал в своем сознании сколько? – месяц, два, год, четыре года… И вот свершилось. Где дробь барабанов, где грохот литавр?! Почему так стыло и пусто в душе…