
Полная версия
Косиног. История о колдовстве
Уоллес устремил полный ярости взгляд на Эдварда.
– Погляди, кем ты стал, – процедил он. – Наслушался этой бабы и против родного брата пошел! Предал отца и его наследие! Скажи спасибо, что папы здесь нет, что не видит он всех твоих гнусностей, иначе у него от стыда и разочарования сердце разорвалось бы!
Презрительно усмехнувшись напоследок, Уоллес развернулся и стремительным шагом направился прочь.

Глава вторая

Пинком захлопнув за собой дверь, Эдвард внес в дом охапку наколотых дров. Дрова он сложил у печи и подкинул в топку пару полешек. Абита заканчивала готовить ужин – яичницу-болтунью с вчерашними кукурузными лепешками.
Улучив минутку, Абита расшнуровала тугой корсет, со вздохом облегчения сбросила его на кровать, развязала и сдернула с головы чепец.
«В Саттоне о таком и речи бы быть не могло, – подумала она, зная, что женщинам здесь не положено снимать чепцы даже на ночь. – Но я же не в Саттоне, верно?»
Встряхнув освободившимися волосами, она запустила пальцы в длинные локоны и снова, возможно, в тысячный раз, не меньше, порадовалась нахлынувшему чувству свободы, а еще тому, что живут они тут, в глухомани, вдали от множества любопытных глаз и болтливых языков.
Наконец Абита водрузила сковороду на стол, и оба сели за ужин. Эдвард сложил руки перед грудью. Абита сделала то же.
– Аминь, – сказал муж, закончив благодарственную молитву.
– Аминь, – сказала и Абита, и оба принялись за еду.
– Отчего ты так киснешь, Эдвард? Тебе бы улыбаться, а ты…
Эдвард оторвал взгляд от тарелки.
– Э-э… а, да. Да. Знаю.
– Ужин не удался? Да, верно, кукурузные лепешки черствоваты. Смалец у нас с тобой кончился, но…
– О нет, Абита. Не в ужине дело. Ты и из горшка сосновой коры лакомство приготовишь. Нет, дело совсем не в еде.
Абита молчала. Она давно усвоила: чтобы разговориться, Эдварду нужно время.
– Дело в Уоллесе, – со вздохом сознался муж. – Что он сказал о папе…
Махнув рукой, он умолк.
– Хочешь сказать, тебе стыдно? Чушь полная, и ты, Эдвард Уильямс, лучше меня это знаешь. Брату твоему – вот кому стыдно должно быть.
– Согласен, – кивнул Эдвард. – Да, я многого не понимаю, не замечаю, но уж такие-то вещи понять способен. Это не просто ссора. Он ведь мне брат. Родной брат. Разрыв с братом… от этого-то на сердце и тяжело.
– И Уоллес прекрасно об этом знает. Знает, Эдвард, и пользуется этим, будто оружием, играет на твоей братской любви, чтоб вертеть тобой, как захочет.
Эдвард надолго умолк, устремив взгляд в огонь.
– Ты же помнишь о моих затруднениях. Что люди для меня – загадка. Что я сроду не понимал, чего от них ждать… что говорить, что делать. Подрастая, прочие дети это приметили… а дети порой очень жестоки к тем, кто на остальных не похож. Так вот, Уоллес всегда за меня заступался. Никому не позволял надо мной измываться… никому.
Эдвард вновь замолчал. Абите очень хотелось напомнить, что теперь Уоллес сам над ним измывается, и даже хуже, но вместо этого она лишь вздохнула.
– Быть может, со временем эти раны заживут.
Эдвард не отвечал, по-прежнему глядя в огонь.
Поднявшись, Абита подошла к буфету, сняла с полки кастрюльку, поставила ее на стол и подтолкнула к Эдварду.
– Что это? – удивленно моргнув, спросил он.
– А это я тебе еще кое-что приготовила.
Эдвард нахмурил брови.
– Открой же, глупый!
Сняв крышку, Эдвард увидел внутри горстку хрустящего медового хвороста. На губах его мелькнула улыбка.
– Может, все остальное у нас и на исходе, – сказала Абита, – но меда, благодаря твоему мастерству пасечника, еще хватает.
Сунув в рот ломтик хвороста, Эдвард принялся с хрустом жевать.
– Спасибо, Аби.
– Сегодня ты замечательно себя показал, – заметила Абита. – С Уоллесом справился. Я тобой так гордилась: знала ведь, насколько для тебя такие вещи трудны. Но ты был просто восхитителен!
– Да, уж это точно, – просияв, даже негромко хмыкнув, согласился Эдвард. – А ты мне из-за того дерева рожи корчила… и, знаешь, так помогло! Откуда только в такой крохе, как ты, этакий твердый нрав?
С этими словами он вернул крышку на место.
– Нет, съешь еще. Ты заслужил.
Эдвард взял себе еще ломтик.
– Всего одна, последняя выплата, Эдвард, и мы свободны! Вспомни об этом. А как только от долгового ярма избавимся, всего у нас будет в избытке. И я смогу покупать сахар, и смалец, и соль, и столько имбирных пряников тебе напеку – ешь до отвала! А может, хватит даже на ткань, чтоб новую одежду пошить. Чтоб в кои-то веки не выглядеть, как попрошайки.
– Бог даст, все у нас с тобой будет, – сказал Эдвард, накрыв ее руки ладонями. – А ты, Абита Уильямс – просто благословение Господа. Что б я без тебя делал?
– Мы с тобой – просто пара белых ворон, – рассмеялась Абита. – Что ж, может, вдвоем и найдем себе место под солнцем.
Сложив тарелки и ложки с ножами в большую лохань, чтоб вымыть поутру, Абита обнаружила Эдварда за извлечением из-за буфета спрятанной там черной кожаной сумки.
Муж поднял на нее взгляд.
– Абита, ты мне сегодня почитаешь?
– Почитаю, – с улыбкой отвечала она. – Знаешь же, что почитаю.
Пристроив сумку возле кровати, Эдвард снял сапоги, сел, зажег масляную лампу, вынул из сумки пару книг и выбрал из них одну. Читать он умел и сам, но очень уж медленно складывал буквы в слова.
– Что сегодня читаем, Эдвард?
Муж подал Абите «Королеву духов» Эдмунда Спенсера.
– А-а, моя любимая!
– Я помню.
Эту книгу Абита привезла с собою из Англии. Как всполошился Эдвард, впервые увидев ее, как горячо настаивал, чтобы Абита немедля ее сожгла: ведь среди пуритан чтение любых книг, кроме Библии почитается за тяжкий грех… Однако Абите удалось уломать его послушать несколько глав, и после этого Эдвард согласился сберечь книгу, пока она не будет дочитана до конца. Сейчас они читали «Королеву духов» уже по третьему разу, а книг в доме завелось целых шесть. Похоже, с тех пор без приобретения нового романа не обходилась ни одна поездка в Хартфорд.
«Да, Эдвард, пожалуй, ты не безнадежен», – с улыбкой подумала Абита.
Раздевшись до нижней рубашки, она устроилась на кровати, рядом с мужем, скрестила ноги, открыла книгу там, где остановилась в последний раз, и начала читать.
Тем временем Эдвард подтащил к себе сумку. Ее он унаследовал от отца. Внутри хранились несколько угольных карандашей и пять-шесть дюжин старых листов пергамента. Пергамент был сплошь исписан многословными отцовскими толкованиями всевозможных отрывков из Библии, но сохранил его Эдвард вовсе не ради них, а из любви к рисованию и украшал эти страницы – с лицевой стороны, с оборотной, хоть чистые, хоть поверх строк – на удивление точными, уверенно выполненными рисунками. Вот и сейчас он достал пергамент и уголь, уложил сумку на колено, а сверху пристроил пергаментный лист, чтобы порисовать, пока Абита читает вслух.
– Я так радуюсь, когда тебе удается выкроить время для рисования, – сказала Абита, наугад вынув из стопки листок.
Рисунок, как и большая часть их, оказался ее портретом, одним из первых, нарисованных Эдвардом: лицо кривовато, глаза косят, губы – всего-навсего толстые линии… Абита тихонько хихикнула. Выглядела она здесь, точно печальное огородное пугало, однако, несмотря на всю грубость рисунка, узнала в портрете себя, а вынув из стопки еще один, сделанный совсем недавно, изумленно подняла брови. Вот это разница! Здесь черты ее лица и волосы слагались из мягких, волнистых, оживленных растушевкой штрихов. Но больше всего ей нравилось, что Эдвард изобразил ее настоящей красавицей. Оставалось только надеяться, что он вправду видит Абиту именно такой.
– Эдвард, скажи: как так выходит, что каждый новый рисунок получается лучше прежнего? Может, ты в детстве уроки рисования брал?
– О нет, единственным уроком изящных искусств за всю мою жизнь была порка, заданная отцом, заставшим меня за рисованием. Кажется, мне тогда было лет около восьми. Рисовать снова я начал только после смерти отца, и то не сразу.
– Тогда как же у тебя получается? Как можно постичь мастерство рисования самоучкой?
– Само собой выходит, – подав плечами, ответил Эдвард. – По-другому объяснить не могу.
– Вот эти, новые, просто чудесны. А невозможность вставить их в рамки и повесить на стену – сущее безобразие!
Представив себе ужас на лице Сары Картер при виде одного из этих рисунков, Абита хихикнула и вынула из стопки еще листок. Этого она раньше не видела. Тут Эдвард изобразил ее спящей: волосы, точно в сказочных грезах, вьются вокруг озаренного лунным светом лица; особо подчеркнуты полные губы и выпуклость полуобнаженной груди…
«Вот красота-то! Какая же красота!» – подумала она, взглянув на Эдварда так, точно видит его впервые. В эту минуту, страстно чертя углем по пергаменту, он сделался просто прекрасен: губы слегка приоткрыты, в глазах огонь…
«По-моему, за всей этой неловкостью прячется романтик».
С этой мыслью Абита показала Эдварду рисунок.
– Ты вправду такой меня видишь?
Муж, покраснев, кивнул.
Озорно улыбнувшись, Абита потянула книзу ворот рубашки, медленно обнажила плечи, а после и грудь.
Эдвард отвел взгляд, уставился на пергамент.
– Мне нравится, Эдвард. А нарисуй меня… вот такой? Пожалуйста.
Не ответив ни слова, Эдвард краешком глаза выглянул из-за пергамента, не спеша, без нажима, принялся рисовать. Но вот уголь в его руке замелькал быстрее, едва ли не с лихорадочной быстротой, устремленный на Абиту взгляд мужа ожил, дыхание участилось, и сердце Абиты тоже застучало куда быстрее.
– Эдвард, похоже, читать я больше не в настроении.
Отложив книгу, она вынула из рук мужа пергамент и карандаш, отложила в сторонку и их, и поцеловала Эдварда в губы.
Казалось, Эдвард на миг растерялся, не зная, что делать, но тут же страстно ответил на поцелуй. Языки их встретились, ладони Эдварда легли на грудь, скользнули к бедрам.
Любя друг друга во мраке, под треск огня в очаге, ни Абита, ни Эдвард даже не заметили пауков – многих дюжин пауков самой разной величины, разом вылезших из укрытий, засеменивших по полу, по потолку. Не заметили они и трех небольших теней, замерших в дальнем углу комнаты, парящих над полом, в ожидании глядя на них.
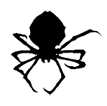
– Нет, папа, твою ферму я сохраню, – шептал Уоллес, шагая по ступеням, ведущим к роскошному парадному крыльцу особняка лорда Мэнсфилда. – Клянусь тебе, сохраню.
Трижды ударив в дверь увесистым бронзовым молотком, он принялся ждать.
При виде гостя вышедший на стук дворецкий слегка растерялся.
– Мистер Уильямс, сэр… э-э… сегодня я вас не ожидал.
– Да, но мне нужно увидеться с лордом Мэнсфилдом. По срочному делу.
– Хм-м… позвольте, я справлюсь, готов ли он вас принять. Прошу, входите. Можете присесть здесь, в фойе.
В дом Уоллес вошел, однако садиться не стал, а вместо этого зашагал из угла в угол и мельком заглянул в примыкавшую к фойе гостиную. В стенах особняка лорда Мэнсфилда он оказался впервые и от души восхищался бронзовыми дверными ручками, канделябрами, прекрасными живописными полотнами, узорчатыми коврами, изысканной мебелью. Лорд Мэнсфилд тоже был пуританином, однако даже среди пуритан богатство и положение в обществе приносили их обладателям немалые привилегии. Некоторые вовсе считали, что богатство свидетельствует о благоволении Господа, а посему его не только можно, но и до́лжно выставлять напоказ.
– Уоллес… сэр, – окликнул его дворецкий, – лорд Мэнсфилд примет вас в кабинете. Прошу, ступайте со мной.
Проводив Уоллеса до конца коридора, дворецкий распахнул перед ним одну из дверей.
– Можете войти.
Переступив порог, Уоллес увидел перед собой трех человек в элегантных покойных креслах. Все трое дымили трубками так, что от дыма в кабинете было не продохнуть. Ноздри защекотал аромат табака. Собравшиеся оживленно беседовали, и потому Уоллесу оставалось только стоять да ждать. Наконец лорд Мэнсфилд поднял на него взгляд.
– А, Уоллес! Входи, входи. С мировым судьей Уотсоном ты, если не ошибаюсь, знаком?
Невысокий, пухленький человек средних лет, в напудренном парике, разодетый с иголочки, оглянулся на дверь и кивнул Уоллесу.
– Действительно, встречаться нам доводилось, – кивнув в ответ, подтвердил Уоллес.
– А это его помощник, капитан Джон Мур.
Суровый на вид, темноглазый, с ног до головы в черном, капитан смерил Уоллеса испытующим взглядом. Из-за его широкого кожаного пояса торчала рукоять кремневого пистолета, а рядом, прислоненная к подлокотнику кресла, стояла шпага в ножнах.
– Не имел удовольствия.
– Капитан, это Уоллес Уильямс. У нас с ним кое-какие совместные дела. Уоллес – сын Натаниэля Уильямса. Того самого Натаниэля Уильямса, одного из основателей Саттона.
– Ну, кто такой Натаниэль Уильямс, мне напоминать ни к чему, – сказал Мур, поднимаясь и протягивая Уоллесу руку. – Искренне рад знакомству. Я бился плечом к плечу с вашим отцом, когда был совсем еще молод.
Оба обменялись рукопожатием.
– Да, – подтвердил лорд Мэнсфилд, – если бы не отец Уоллеса, как знать, удалось бы мне сохранить при себе вот этот прелестный скальп? Ведь это он, Натаниэль, подставил мне плечо в тот день, при Ферри-Пойнт, когда я получил стрелу в бедро, вот сюда! Вместе мы кое-как доковыляли до форта Сэйбрук, а эти растреклятые краснокожие дикари не оставляли нас в покое всю дорогу. Твой отец, Уоллес, был замечательным, на редкость замечательным человеком.
– Благодарю вас, сэр. Услышать такое от вас дорого стоит. Вы же понимаете, что он для меня значил.
– Верно, верно, всем нам весьма его не хватает. Ну, а теперь говори, с чем пожаловал? Судя по выражению лица, новости – так себе?
Уоллес сокрушенно вздохнул.
– Вижу, я не ошибся, – заметил лорд Мэнсфилд. – Что ж, присаживайся и расскажи, каковы наши дела.
– С сожалением вынужден сообщить: вся загвоздка в жене брата, Абите. Я изложил Эдварду ваше справедливое, великодушное предложение, и он, несомненно, не стал бы артачиться, сделал бы все, что от него требуется, как обычно. Как всегда. Однако его супруга продолжает совать нос в наши дела, при всяком удобном случае вбивает между мною и братом клин. Она-то и подучила его отвергнуть ваши условия.
– Что? Баба? – удивился судья Уотсон, впервые нарушив молчание. – Так отчего же ты сразу преподобным на нее не донес?
– Следовало, но брат упросил не делать этого, и я обещал дать ей еще один шанс, – пояснил Уоллес, покачав головой. – Сам же теперь и жалею. Брат… он умом не силен, вот она этим и пользуется, настраивает Эдварда против меня.
– Добрая ты душа, Уоллес, – сказал лорд Мэнсфилд. – Как о брате заботишься… Я понимаю: родная кровь, но вспомни не только об Эдварде, вспомни об интересах каждого. Тебе и о собственной семье позаботиться нужно, а он загоняет тебя в тупик. Хочешь не хочешь, придется тебе пойти к преподобному Картеру. Преподобный Абите этаких выходок с рук не спустит, и Эдварда, я уверен, вразумит непременно.
Уоллес нерешительно кашлянул.
– Уже ходил, но… э-э… но эта ведьма вбила в голову Эдварда столько всякого вздора, что он сумел убедить проповедников в своей правоте.
– Что? – ошеломленно выдохнули все трое. – На каком основании? Как это?
Уоллес изложил разговор с проповедниками во всех подробностях, однако недоумение лорда Мэнсфилда с гостями только усилилось.
– Преподобный Картер у меня с давних пор – что заноза в боку, – сказал лорд Мэнсфилд. – Порой он настолько прямолинеен, что не воспринимает истинного смысла наших заповедей во всем его богатстве и широте.
– За деревьями леса не видит, – вставил судья Уотсон.
– Да, именно. В этом и состояла вся суть наших разногласий еще тогда, многие годы назад. Поэтому он и откололся, и поселился там, в Саттоне.
Испустив долгий вздох, лорд Мэнсфилд глубоко затянулся табачным дымом.
– Уоллес, мой долг перед твоим отцом – позаботиться, чтобы ни ты, ни Эдвард не остались без ферм. Выход, для всех приемлемый, несомненно, найдется. К примеру… что, если каждый из нас возьмет на себя часть долга? Я снижу сумму первого платежа, а остальное разделим меж вами двумя. Выплачивайте, скажем, по четвертине от урожая с ваших хозяйств в течение десяти лет, а после оба свободны и ничего никому не должны. Что скажешь?
– На мой взгляд, более чем справедливо, – заметил судья.
«Десяти лет?!»
Уоллес едва не задохнулся от возмущения, но тут же вспомнил, что в ином случае вовсе лишится фермы, и неохотно кивнул.
– Уверен, Эдвард бы согласился. Во имя отца так бы и поступил. Но, повторюсь, загвоздка не в нем – в этой бабе. Боюсь, как ваше предложение ни справедливо, ее ядовитый язык испортит все дело.
– Значит, придется нам о ней позаботиться, – сказал судья.
– Да, позаботиться об этой Абите придется, – согласился лорд Мэнсфилд. – Послушай, Уоллес, я понимаю твое желание уберечь брата от неприятностей, однако настаиваю: о поведении его жены донеси преподобному немедля. Непокорства в семье он не потерпит, а хорошая порка и пара ночей в колодках, на холодке, научит ее не совать нос, куда не след.
Уоллес блекло улыбнулся.
– Позвольте и мне добавить кое-что. Думаю, пригодится.
С этим судья Уотсон подошел к письменному столу, отыскал лист пергамента и вынул перо из чернильницы. Набросав на листе несколько фраз, он свернул пергамент и подал Уоллесу.
– Всего лишь намек, – пояснил он. – Напоминание преподобному: мы очень надеемся, что он уладит дело, как подобает.
– А если и из этого ничего не выйдет, – добавил лорд Мэнсфилд, – тебе, Уоллес, настоятельно рекомендуется придумать, что с этим можно поделать. Ее выходки – дерзкий вызов основам нашего общества, и тебе, и всем добрым жителям Саттона, и самому Господу Богу. Знаю, ты – человек набожный, благочестивый, но если Дьявол рукой этой женщины сеет смуту меж правоверными, ради восстановления порядка от праведного пути можно и отступить. Ты меня понимаешь?
– Думаю, да, сэр.
– Во имя Господа даже ангелам нередко приходится браться за темное дело, – добавил судья Уотсон. – Не так ли?
Уоллес, чуть поразмыслив над этим, кивнул – скорее, себе самому, чем собеседникам.
– А что ж… в самом деле, приходится.
Обменявшись с обоими твердым рукопожатием, Уоллес направился к выходу. По дороге домой в голове его снова и снова звучали слова судьи.
«Во имя Господа даже ангелам нередко приходится браться за темное дело».
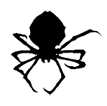
– Проснись!
– Отстаньте.
– Они здесь. Ты должен убить их.
– Кого?
– Этих людей… принюхайся – и учуешь.
Принюхавшись, зверь вправду учуял кровь, текущую в человеческих жилах. Люди… двое… Зверь поднял веки.
– Ты должен убить их, Отец.
– «Отец»?
– Помнишь ли ты свое имя?
Зверь призадумался.
– Похоже, имен у меня немало?
– В самом деле, немало.
– Кто вы?
– Твои дети. Ты должен защитить нас, защитить Паупау… от этих людей. Не подведи нас. Не подведи нас снова.
– Я так устал…
– Тебе нужна еще кровь, да побольше.
Издали, сверху, донесся глухой удар, и козлоподобный зверь осознал, что не только слышит людей, но и чувствует их, чувствует души обоих, мужчины и женщины. Мужчина приблизился вплотную к проему.
– Мы позовем их, приведем их к тебе. Ты сделаешь остальное. Настал час попировать.
– Да. Настал час попировать.
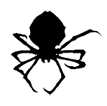
– Хватит. Ближе не надо, – сказала Абита.
Эдвард, с топором на плече, не слушая ее, подошел к самому зеву пещеры.
– Эдвард, ты же упадешь.
– Бог мой, женщина, успокойся же, наконец. Никуда я не упаду.
– Стой! – с неожиданной жесткостью велела Абита. – Он… Эдвард, он там.
Эдвард взглянул ей в глаза.
– Знаю, ты меня дурой считаешь, но… э-э… я вправду, вправду чувствую: он там, внутри.
– Кто «он»?
– Дьявол! – выпалила Абита. – Я чувствую!
– Дьявол? – усмехнулся Эдвард. – Сам Дьявол, здесь, в наших лесах? Так надо же преподобного Картера поскорее предупредить!
– Я не шучу!
Щеки Абиты раскраснелись, и, видя это, Эдвард вновь усмехнулся.
– Абита, ты вправду боишься, что старина Косиног схватит меня и утащит к себе в берлогу?
Судя по выражению лица, Абита именно так и полагала.
– По-твоему, это смешно? – воскликнула она, хлопнув о бедра ладонями. – Ну, так возьми да сам туда прыгни, избавь нас с Косиногом от лишних хлопот. Я за него беспокоюсь, а он…
Да, Эдвард видел: Абита вправду волнуется за него, очень и очень волнуется, а если так, усмехаться тут нечего.
– Ох, Абита, прости. Я не хотел над тобой насмехаться. Не бойся. Я осторожно, слово даю.
Похоже, это Абиту слегка успокоило, однако она по-прежнему то и дело косилась в сторону пещеры, и Эдвард поневоле задумался: что же она там видела, что ей могло там почудиться? Как бы то ни было, Абите хотелось, чтоб он загородил вход в пещеру воротами – будто бы для того, чтобы скотина туда больше не забредала, но, видимо, наоборот. Скорее, затем, чтоб обитатель пещеры не смог выбраться наружу.
С небес донесся громкий клекот. Абита вздрогнула. Оба подняли взгляды.
– Лебеди-трубачи, – сказал Эдвард. – С юга домой возвращаются.
Абита сдвинула чепец на затылок, чтоб разглядеть птиц получше, и длинные пряди ее волос рассыпались по плечам, засияли густой рыжиной в лучах солнца, пляшущих среди ветвей.
«Ну и красавица же ты у меня», – подумалось Эдварду.
Уоллес – тот вечно отпускал колкости насчет ее вида, насчет веснушек и худобы. Возможно, Абите вправду недоставало милых округлых щек с ямочками, как у Ребекки Чилтон, или пышности форм Мэри Диббл, однако, на взгляд Эдварда, поразительные зеленые глаза Абиты выглядели куда живее, красивее, чем у обеих этих девиц, вместе взятых.
– Весна на носу, – заметил он. – Глядишь, скоро уже и сеять пора.
Абита одарила его жутковатой, едва ли не хищной улыбкой, и эту улыбку Эдвард понял без слов.
– И, с Божьего соизволения, мы скоро с ним расквитаемся, – процедила она. – Придется Уоллесу кем-то другим помыкать. Ах, Эдвард, дождаться бы только! Славный же то будет день, а?
– Уж это точно.
Шагнув к мужу, Абита взяла его за руку. В ответ Эдвард легонько сжал ее пальцы и сразу же выпустил, однако Абита привлекла его ближе, обняла, прижалась животом к его животу. Сразу же вспомнив об их ночном сладострастии, Эдвард напрягся всем телом, покраснел, отстранился от жены, не в силах взглянуть ей в глаза.
– Что с тобой, Эдвард?
– Знаешь, не надо бы нам так поступать. Плоть ведь нас слабыми делает. Вот вчера ночью я перешел все границы, и как же мне теперь стыдно…
Абита отпрянула прочь, переменившись в лице так, точно он дал ей пощечину.
«Вот видишь, – подумал Эдвард, – постыдное сладострастие ведет только к мукам. Изорву я этот рисунок, все эти рисунки изорву. Прости, Господи, мою слабость».
Тем временем Абита, отвернувшись от него, подошла к пещере. Судя по осанке, ей было здорово не по себе. Пошарив в кармане передника, она повесила над входом в пещеру какой-то пустяк. Приблизившись, Эдвард увидел, что это крестик из перьев и прутиков, связанных красной шерстяной нитью.
– Что это?
– Всего-навсего оберег. Моя мать такие же делала, чтобы недобрые духи держались подальше.
Эдвард поспешил оглядеться вокруг.
– Абита, брось эту затею. А вдруг люди увидят?
– Здесь нет никого, кроме нас.
– Нет уж. Довольно этих твоих чародейств, слышишь? С ними пора покончить, – твердо сказал он и только после понял, что прозвучало все это резче, чем следовало.
– Это же просто рябиновые прутики и пряжа, Эдвард. Как…
– Эти прутики с пряжей тебя до позорного столба, до плетей доведут!
– Эдвард, тебе прекрасно известно: обереги делают многие из саттонских женщин. На счастье, не более.
Действительно, так оно и было. Действительно, деревенские жители отнюдь не гнушались домашними снадобьями, зельями, талисманами – всем, чем сумеют разжиться. Пользовались ими, конечно, тайком, однако для всех это было делом вполне обычным.
– Вот это, – возразил Эдвард, указав на крестик из прутиков, – не просто безделка на счастье. Сейчас же пообещай мне покончить с чарами и амулетами навсегда.
– А откуда у нас, по-твоему, нынче утром лепешки на завтрак взялись? Твой брат такое ярмо взвалил нам на шею, что без моих амулетов да чар, без торговли ими, не нашлось бы в доме ни муки, ни соли.











