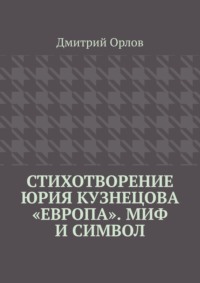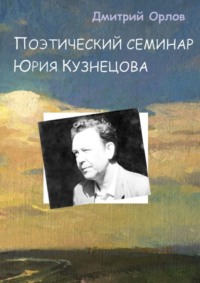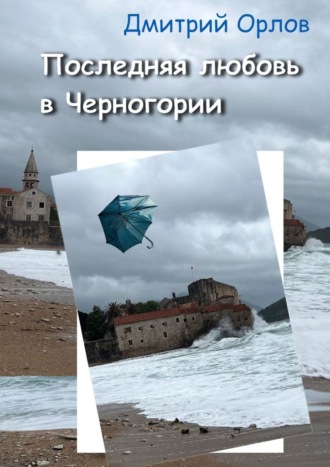
Полная версия
Последняя любовь в Черногории
Казалось, что в самом воздухе еще не затих последний отголосок великой симфонии сотворения мира. Мария и Сергей Львович просто и беззаботно купались, загорали, пили кофе и разговаривали. Они так же просто и естественно вступали в свой миф – миф о мужчине и женщине, какими их задумал Бог. И душу их пронизывал тот же отзвук симфонии сотворения мира. И душа их дрожала тонкой дрожью не от мира сего. Если миф живой, то в него можно войти из любой точки пространства и времени, правда не любому человеку, а только тому, кому разрешено. Им почему-то разрешили. Если и не полностью войти в миф, то, хотя бы, – прикоснуться. А это уже немало.
После Святого Стефана, ближе к вечеру они сидели на балконе у Сергея Львовича. Впрочем, скорее это был не балкон, а почти терраса. Терраса была угловой и открывала два вида: на залив с островом Святого Николая и Старым городом, другой вид – на горную цепь, отгораживавшую долину Будвы от всего остального континентального мира. Часть террасы с видом на море была шириной в размах рук, и там вполне свободно умещались чайный столик и стул. В другой части – с видом на горы – стоял такой же чайный столик со стулом, но там можно было еще и водить хоровод вокруг.
Сергей Львович принес стул с другой части террасы, и они с Марией сели напротив гор с бокалами сока.
– А почему у тебя два столика? – спросила Марисоль.
– Иногда хочется попить кофе с морем, иногда – с горами. Сначала я таскал столик туда-сюда, потом надоело – купил еще один. Удобно!
– А почему у каждого столика по одному стулу?
– Я живу один.
– А гости?
– У меня не бывает гостей.
Мария промолчала. У нее, как заметил Сергей Львович, иногда случался особый вид молчания – «электрический». Посторонние люди его, конечно же, не отличали его от обычного молчания, но тот, кто близко общался с ней, знали, что этот очень важный элемент разговора надо обязательно учитывать. В ответ на фразу Сергея Львовича «у меня не бывает гостей» Мария чуть прищурив глаза, не меняя положение головы, бросила на него быстрый пронзительный взгляд, затем медленно отвела глаза, и на несколько секунд замерла с туманным взглядом и расслабленным лицом. Можно предположить, что в эти секунды внутри у нее совершалась какая-то очень интенсивная умственная работа. Это не была обычная напряженная мысль – ее бы выдала мимика лица. Наверное, это была какая-то объемная работа подсознания. В эти секунды вокруг Марии возникал невидимый кокон напряженной тишины и в нем будто интуитивно слышалось то ли легкое шуршание, то ли потрескивание электрических зарядов.
Мария вернулась в реальность после секундной задумчивости, отпила сок из бокала и стала смотреть на горы. Обычно, чтобы разглядеть пейзаж, надо какое-то время всматриваться, но в этот раз она увидела горы сразу. Горы как-то разом окрылись ей и пошли навстречу. Внизу горы были сплошь покрыты кустарниками и деревцами, чем выше от земли, тем кустарники становились меньше и росли реже, а затем переходили в зеленый ковер из травы. Ближе к вершинам июльский зеленый ковер плавно переходил в августовский желтый и исчезал, обнажая мощную каменную грудь горной гряды. Над каменными вершинами стоял огромный пенящийся взрыв из белоснежных облаков. Каждая складка горы, каждый отраженный блик, каждое пятно тени от облака, – каждый элемент был так ясно виден и был так выразителен, будто горы приблизились на расстояние вытянутой руки. Еще мгновение – и горы заговорят с ней человеческим голосом… Мария тряхнула головой и от вернулась от горного пейзажа.
– Все, хватит! Слишком красиво, перебор… Пойдем в комнату.
– Это называется – «синдром Стендаля», – улыбнувшись сказал Сергей Львович, когда они перешли в квартиру. – Приехал как-то Стендаль во Флоренцию. Принялся ходить по музеям. Как обычно утонченные люди рассматривают шедевры? Они впиваются взглядом, смотрят и смотрят, высасывают, так сказать, весь нектар из шедевра. А во Флоренции плотность произведений искусства запредельная – два шедевра на квадратный метр. Стендаль смотрел-смотрел и – грохнулся в обморок! Перепил нектара. С чувствительными людьми в Черногории, наверное, такое тоже приключиться может.
– Это Будва такая красивая? Или – вся Черногория?
– Вся Черногория сделана по золотому сечению.
– Все, пожалуй, я тоже перепила нектара. Пойду в отель отравлюсь телевизором или интернетом… или поработаю, а то меня постигнет участь Стендаля.
Мария встала.
– А… это… ты не останешься?
– Ты считаешь, что удачно организовал курортный секс-конвейер? – спросила Мария по пути к выходу.
– Нет, что ты?! – испуганно воскликнул Сергей Львович, но тут же рассмеялся: – Меня так восхищают некоторые твои… французские обороты…
– Слова прямого воздействия, – подсказала Мария уже в коридоре.
– Точно! «Слова прямого воздействия»… – Сергей Львович вновь испуганно спохватился и оборвал смех: – Я провожу?
– Нет, не надо.
– А… мы завтра… увидимся?..
– Возможно, – ответила Мария обувая босоножки с помощью «ложечки», – почему бы и нет? Городишко-то маленький.
Мария обулась и взяв в руки свою пляжную сумку, повернулась к Сергею Львовичу.
– Сергей, большое спасибо за экскурсию. Было просто великолепно! Спокойной ночи.
– Спокойной… ночи, – эхом отозвался растерянный Сергей Львович.
В дверях она остановилась.
– Завтра, как проснусь, я собираюсь на Могрен. Если захочешь – подходи.
– Спасибо! – он вспыхнул как лампочка.
Дверь за Марией захлопнулась. Этим хлопком закончились события дня. И этот же хлопок словно выстрел освободил душу Сергея Львовича. Душа вдруг скачком расширилась и полетела разом во все стороны: над морем, над горами, над только что сотворенным миром Святого Стефана…
Сергей Львович подумал, что если бы он стал композитором, то сейчас было самое время создавать настоящую, вдохновенную музыку, но… он не стал композитором. Поэтому он еще немного полетал со своей душой, успокоил себя и сел за компьютер работать.
8
Мария появилась на пляже после полудня. Сергей Львович к этому времени уже весь издергался. Ему, вроде бы, повезло: он сразу разглядел ее в потоке приходящих. Однако, ее появление не принесло ему покоя: Мария на ходу поздоровалась и даже не стала смотреть занятые им лежаки. Она прошла к середине пляжа и выбрала там «наилучший» с ее точки зрения лежак, рядом с которым свободных не было. Сергей Львович вынужден был удалиться на свое «лежбище», где погрузился в душевный раздрай: то ли он с Марией на пляже, то ли один? То ли он вообще с Марией, то ли один? Вообще Мария вместе с какой-то сказочной полнотой жизни одновременно вносила в его жизнь крайнюю раздерганность и зыбкость. То, что она могла в любой момент уйти и никогда больше не появиться, было несомненным. Это было в высшей степени мучительное ежесекундное ощущение Сергея Львовича при общении с ней. И самое мучительное, крайне непривычное, в состоянии, возможно впервые им в жизни проживаемом, было то, что невозможно ничего изменить. Невозможно было ни на волос сдвинуть ни одно событие, ни один всплеск чувств. Сергей Львович лежал с закрытыми глазами в жарком – тридатипятиградусном равнодушно-спокойном мире, сделанном из моря, гор и неба, как в гробу. Вдруг раздался голос Марии:
– Господин пират, можно расположиться рядом с вами?
Сергей Львович подпрыгнул будто на пружине, словно восстал из гроба.
– Конечно! Я же говорил, что здесь лучшее место!
– Просто надоели желающие познакомиться.
Мария предложила сплавать вместе «к буйкам», имея ввиду ограничительный трос с красно-белыми пенопластовыми поплавками. Вода в тот день была очень теплой, и они долго разговаривали, зависнув в невесомости, держась за поплавки и лениво пошевеливая ногами. Они восхищались видом Венецианского города, выплывавшего из-за скал в открытое море с колокольнями вместо мачт. Потом они восхищались тем, что нет горизонта, а морская синева через дымчато-голубую полоску переходила сразу в синеву небесную. Потом внимательно рассматривали Святого Николая. Остров виделся им прямоугольным треугольником, правый берег которого вставал из воды под прямым углом, от верхней точки его шла гипотенуза, снижаясь до уровня моря. Очень забавно выглядели отколовшиеся от острова скалы, ставшие маленькими островками. Эти три островка полностью копировали геометрию самого острова Святого Николая. Сергей Львович сказал, что он называет эту группу островов Николай и Николайчики. Название было точное, и Мария посмеялась.
После пляжа они решили сразу выпить кофе в «Моцарте». На площади они столкнулись с неожиданным препятствием: возле кафе собралась непонятная молчаливая толкучка. Внутри толкучка оказалась не совсем молчаливой: там полукругом стояли взрослые музыканты с трубами, но трубы были опущены, и в центре без музыки, отчаянно-весело, подбоченясь танцевали дети. Впрочем, если прислушаться, то можно было расслышать, как сквозь шарканье детских ног пробивались звуки музыки, видимо с какого-то телефона.
– Что там такое? – спросила Мария, не видевшая из-за спин происходившего.
– Какой-то детский фольклорный ансамбль, – Сергею Львовичу рост позволял заглянуть поверх голов. – Болгары или макендонцы какие-нибудь.
– Не хочется сидеть возле толкотни… Пойдем, пока они не уйдут, сходим в город. Я хочу заглянуть в ювелирный.
На узкой средневековой улочке, еще не было вечерней толпы – народ пока что был на пляже. Первый этаж домов занимали магазины, второй и третий – были жилыми. Об этом свидетельствовало вывешенное кое-где на просушку белье.
Мария надолго нырнула в магазинчик с выразительным названием «Злато». Сергей Львович, чтобы не толкаться на узкой улочке у входа, прошел два шага до небольшой площади, откуда было можно следить за дверью ювелирного магазина. Сама площадь, дома ее составляющие, все крылечки и ступеньки, – все было построено из камней и по законам средневековой гармонии. Это давало площади цельность живого организма, где все согласовано и нет ни одного неживого, ненужного элемента. Сверх этого, камни площади были вместе уже добрых пять веков, за эти века камни так притерлись друг к другу, привыкли и подружились, что площадь рождала щемящее чувство умиления. Такое же чувство умиления возникает, когда смотришь на любимую ребенком музыкальную шкатулку. Все это, давно прочувстванное, мигом всплыло в уме Сергея Львовича, но поверх этого старого прозвучало какое-то новое впечатление. При всей игрушечной умилительности площади здесь были настоящие тяжеленные камни, настоящая площадь настоящего средневекового города, вся пропитанная энергиями подлинной человеческой жизни, ее потом, кровью, страстями и любовью. И это представилось Сергею Львовичу некой несомненной и высшей ценностью в современном мире, все более становящимся иллюзорным и фальшивым.
Как эта площадь называлась пятьсот лет назад Сергей Львович не знал. Сейчас она носила звание «Площадь поэтов». В дальнем углу площади стояли несколько старинных, возможно античных, мраморных камней. Возле них время от времени на площади действительно появлялись настоящие поэты и писатели. Тогда на площадь выносили стулья и расставляли их рядами для слушателей, которым литераторы рассказывали о своих книгах и отвечали на вопросы.
В данный момент на площади местные мальчишки торговали ракушками и сухими морскими звездами. Вытесненный мальчишками, с краю стоял Чарли Чаплин. Он своими трюками и ужимками пытался обратить на себя внимание проходящих, провоцируя их сфотографироваться с ним или просто бросить монетку в оттопыренный карман. Выглядело это просто ужасно. Уже лет десять или двенадцать назад, когда Сергей Львович впервые приехал в Будву, Чарли Чаплин уже был здесь и уже производил впечатление немолодого человека. Сейчас, возможно, это был почти пожилой человек. Толстый слой белого макияжа на лице скрывал его возраст, но делал его похожим на смерть, особенно в сочетании с черным костюмом на фоне залитой солнцем площади. Беда была еще в том, подумалось Сергею Львовичу, что современная молодежь уже толком и не помнила первоисточник этого Чарли Чаплина – дергающегося пошляка из немого кино…
Размышления Сергея Львовича прервал отряд детей, выстроенных по-военному в колонну по двое. Колонна шла, извиваясь змеей по узкой улочке, хором выкрикивая:
– Юк-крейн! Ук-краина! Юк-крейн! Ук-краина!
Окружающие расступались и поглядывали на детскую колонну вопросительно. За детьми шла группа «кабанчиков» – уже вполне пузатых мужичков в шортах и шлепанцах, с набрякшими пивом физиономиями. Словно глухое эхо звонких детских голосов «кабанчики» угрюмо бурчали себе под нос:
– Бурк-краина… Бурк-краина…
В эту минуту Сергей Львович увидел Марию, выходившую из двери магазина. Сергей Львович пропустил хвост колонны демонстрантов и подошел к Марии.
– Кто это? – спросила Мария.
– А эти те самые дети, плясавшие на площади… Оказывается, это граждане незалежной Диканьки.
– А зачем они кричат?
– По завету Гоголя: «как будете в Петербурге, то скажите, что есть на свете такие – Бобчинский и Добчинский». Вот, ходят люди по Европе… почти по Европе и кричат: я – Бобчинский! я – Добчинский!
Мария посмотрела на Сергея Львовича, она поняла, что он говорит остроумно, но тема ее не заинтересовала и она не стала вникать в его остроумие.
– Ты можешь зайти со мной в магазин – взглянуть, как смотрятся сережки?
Сергей Львович зашел с Марией в магазин, высказал свою мнение о сережках. Мария поблагодарила продавца и обещала подумать. Они вышли из магазина и пошли по улице в сторону кафе.
– Могу я тебе купить эти сережки? – спросил он.
Мария резко остановилась.
– Это с какой стати? Я что – твоя содержанка? – она стояла перед ним и смотрела в глаза.
– Ну… почему?.. зачем так сразу?
– Это бестактно. Тебе так не кажется?
– Да, возможно… пожалуй,.. но уголовно не наказуется. Извини, если…
– Сергей, это противно смотреть: ты бледнеешь и заикаешься, как восьмиклассник перед учительницей.
– Мари, послушай… Ты знаешь, чего я боюсь. Ты резкая женщина и я опасаюсь твоих резких движений… Могу я, хотя бы, показать тебе в «Моцарте» лучший десерт и не ожидать твоих кавалерийских атак?
– Можешь. Можешь, даже оплатить его, – примирительно согласилась Мария.
9
В этот раз в кафе их ждал приятный сюрприз: в углу, образованном стеной и башней, пианистка негромко играла на электропианино что-то из популярной классики.
– Вот, – Сергей Львович раскрыл перед Марией меню. – Настоящий австрийский десерт «захер», назван по имени кондитера Франца Захера.
Заказали по захеру и по капучино.
– Моцарт… это, ведь тоже – Австрия?
– Да, и эта смотровая площадка, – Сергей Львович указал рукой на террасу, откуда они ночью смотрели на ночную муравьиную жизнь. – Это тоже Австрийская империя. Там была имперская администрация. Сто лет, до восемнадцатого года, до самого падения империи в Будве было австрийское правление.
Принесли десерт и кофе.
– М-м!.. Действительно, вкусно! – Мария удивилась.
– А ты думала, я хочу обмануть тебя?
– Нет, конечно… Просто у тебя, как и у всех мужчин, впереди пирожного шествует идеология. Ты с таким воодушевлением говоришь об Австрии, будто… не знаю… словно ты нанятый за большие деньги пропагандист.
– Нет, я совсем не пропагандист. Просто я очень люблю Австрийскую империю!
Мария от десерта и кофе была в приподнятом настроении, а от шутки о любви к Австрийской империи она просто залилась смехом. У Марии был очень красивый голос, а голос человека лучше всего слышен в веселом смехе. Сергей Львович слушал это роскошное сопрано и улыбался. Мария постепенно успокоилась. Во время смеха она мельком взглянула Сергея Львовича. Потом – еще раз. Потом, успокоившись, она сделала глоток кофе и погрузилось на несколько секунд в свое «электрическое» молчание. Потом она уже не мельком, а пристально взглянула и, мягко улыбаясь, то ли вопросительно, то ли утвердительно произнесла:
– А ведь ты не шутишь.
– В смысле? – не понял Сергей Львович.
– Насчет Австрии.
– А в чем тут может быть шутка?
Мария опять «электрически» помолчала.
– Сережа, а на кофейных чашках у тебя дома этот… забыла фамилию… он тоже из Вены?
– Климт! Да, это тоже австрийский художник. Может, он художник и – «не очень», но для меня он – «последний художник империи». Умер в один год с ней.
– Я приняла это за шутку. Извини, но… согласись, не каждый день встречаешь человека, который «очень сильно любит Австрийскую империю».
Тут уже рассмеялся Сергей Львович:
– Я понимаю, как это выглядит со стороны!.. Но это на первый взгляд – «изгиб психики», а если подумать, то это нормально – относиться к Австрийской империи с симпатией… с сочувствием, может быть.
Женщина и мужчина сидели в кафе и разговаривали: разговор – свободный, незадумчивый, курортный – переходил от погоды к морю, от пирожного – к позабытой всеми империи. В этом не было ничего необычного, ничего примечательного. Странным было то, что разговор был увлекателен для обоих. А ведь эти мужчина и женщина встретились неделю назад, а до этого он прожили по сорок лет самостоятельной жизни. За всю свою сознательную жизнь Мария и одной минуты не продумала о судьбе Австрийской империи, а сейчас она с неким самозабвением следила за мельчайшими поворотами мысли Сергея Львовича.
– Дело в том, что Австрийская империя больше всего похожа на Российскую, – говорил он, очевидно, давно продуманное. – Можно сказать – сестры по несчастью. Они обе перестали существовать в результате Первой мировой.
Мария «электрически» молчала, словно у нее в подсознании с космической скоростью прокручивались те разговоры, которые они могли бы быть, если бы он познакомились лет двадцать назад.
– Хорошо. Но почему надо «любить Австрию», а не Россию? Ведь это более естественно для русского. Согласись!
– Россия… А что такое Россия сейчас? Россия – в двадцатом веке? В результате войны Россия в семнадцатом году рухнула с таким грохотом!.. До сих пор в ушах стоит! Российская империя упала «ниже уровня моря». На ее месте весь двадцатый век просто какая-то дымящаяся яма. Кстати, именно такой ямой и видят Россию западные европейцы. Очень трезвый, совершенно рациональный взгляд.
– А ты?
– Что – я?
– А какой видишь Россию ты?
– Я? – эхом переспросил Сергей Львович. Он пожал плечами: – Для меня Россия – это музыка. Не хочу показаться эпатажным, но… короче говоря… Вся моя сознательная жизнь, я уже говорил, прошла в Петербурге. А в Петербурге все время разыгрывалась одна и та же пьеса. Представь себе, иду в Эрмитаж. Эрмитаж большой – можно заблудиться на пару лет, поэтому всегда намечаешь себе цель: Рембрандт или Рубенс, или, там, Венера, которую Петр привез из Италии для Летнего сада. Идешь по Эрмитажу, опустив глаза, чтобы не отвлекаться, прямо к цели. Пришел, рассмотрел там всякие золотые украшения у Рембрандта, посмотрел на Венеру – хорошая такая Венера, длинноногая. Намеченная задача выполнена. Что дальше? А дальше бредешь уже без цели, куда глаза глядят. То у картины остановишься, то у брошки какой-то, то Георгиевский зал тебя вдруг остановит. Вот, например, все время пробегал Рафаэлевы лоджии, как спортзал, а однажды вдруг остановился и принялся рассматривать всякую живность – филинов там всяких, белочек, листочки-ягодки, дракончиков, чудиков с рожками, нимф разных. Вся эта флора и фауна нарисована на белом фоне. И вдруг меня осенило, что, а ведь белый фон – это небо! Представляешь, небо написать белым цветом! Рафаэлевы ложи сделаны по итальянским первоисточникам – в Риме есть такие росписи, во Флоренции – позже я их сам видел, – скорее всего белое небо европейцы тоже срисовали с каких-нибудь египетских образцов, но ведь какая-то светлая голова придумала впервые писать небо белым цветом! Синим – понятно, золотым – тоже понятно – это золотые солнечные лучи, но – белое небо! И ведь это работает. Белый цвет содержит в себе всю мощность неразделенной радуги. Простоял я не знаю сколько часов перед белым небом… В другой раз идешь-идешь и вдруг – стоп! – тебя озаряет: вот она, лучшая картина! Живая – дышит, двигается – серые волны бегут, облака летят, кораблики плывут – а это, оказывается, огромное окно из Зимнего на Стрелку Васильевского! Со временем пришло осознание, что все эти, вроде бы случайные, остановки, все впечатления, мысли, ритм смены этих мыслей и чувств, – все они подчиняются законам гармонии. Это и есть музыка. Музыку эту три века писали русские цари: строили Зимний дворец, собирали со всего мира коллекции. Для меня Зимний дворец – это музыка Российской империи – империи, которой нет.
Получается, что Россия – это выжженная яма, а над ней сияющий купол музыки из ниоткуда. И так во всем: а что такое Пушкин и Достоевский? Или – Юрий Кузнецов? – музыка из ниоткуда.
Поэтому, как о России говорить рационально? А говорить парадоксально – можно ли?.. Пожалуй, можно, за бутылкой водки, например с каким-нибудь сторожем детского сада с университетским образованием в питерской коммуналке с прогнившими в труху полами. Он тебе будет согласно кивать головой, да, Россия – это выжженный овраг. Потом добавит, что последние тридцать лет и три года он видит над оврагом некое свечение, и он подозревает, что это Китеж готовится к всплытию. Такие разговоры можно вести один раз в три года. Чаще – опасно для рассудка… Я ведь тоже таких разговоров не веду. Собственно говоря… я первый раз в жизни это говорю. Не с кем об этом говорить… и незачем… Вот, поэтому и говорим об Австрийской империи, немного похожей на Россию. Об Австрии можно думать и говорить рационально в здравом рассудке. Австрийская империя, конечно, погибла, но в щадящем режиме, так сказать: ЧК не было, ГУЛАГа не было, церкви не взрывали, элиту по спискам не расстреливали. Так, выход к морю закрыли, колонии отобрали, ограбили слегка, полет мысли ножницами подрезали, но Австрия живет потихоньку, как добротная европейская страна – значительно выше уровня моря.
10
Сергей Львович закончил монолог и посмотрел на Марию. Она заинтересованно разглядывала загорелый пляжный поток, с сумками, полотенцами, надувными фигурами для плаванья.
– Я тебя, наверное, утомил, – предположил Сергей Львович.
– Я просто с удивлением смотрю на этих голопузых, с идиотски счастливыми выражениями лиц. Почему никто из них не ждет всплытия Китежа?!
Сергей Львович искренне рассмеялся.
– Да уж!.. Жизнь многослойна. Каждый живет в своем слое… Каждый – на своей волне.
– Ну ты-то веришь во всплытие?
– Не-не-не… Упаси, Боже! Я просто объективно вижу, что дело идет, скорее всего, как это ни парадоксально, именно к всплытию. Но думать об этом или веровать в это – это путь к дурдому. Дело в том, что человек исключен из планирования будущего. Видимо из-за того, что человек существо слишком кратко живущее, слишком зависящее от биологии. Будущее уже где-то заготовлено. Как какой-то прозрачный хрустальный мир уже построен и медленно надвигается на нас из будущего. Мы его только во сне иногда видим, а рационально просчитать не можем.
– Вот, я слушаю тебя и восхищаюсь: какая же я умная!
– Я думал, что ты сейчас восхитишься моим красноречием! – Сергей Львович от души рассмеялся.
– Нет, почему-то у меня выросло огромное уважение к себе: вроде бы мысли формулируешь ты, а лечу на них я. Хотя, я, честно говоря, я ни о Первой мировой, ни о Китеже, ни, уж тем более Австрии, я никогда не думала.
– Это значит, что по какой-то причине мы с тобой на одной волне. Бывает.
Оба замолчали, думая каждый о своем. Причем никто не смог бы угадать мысли другого, но у обоих мысли вдруг стали тревожными. За высоким взлетом души всегда следуют тревожные мысли.
– Сережа, а ты понимаешь, что я уеду и мы с тобой больше не увидимся? Не увидимся никогда. Ни разу в жизни.
Перед вопросом Марии Сергей Львович был погружен в задумчивость тоже беспокойную, но неопределенную. Вопрос просто обрушил его в панику.
– Что? Не понял… Ты завтра уезжаешь?!
– Нет, не завтра. Через неделю. Но после мы с тобой никогда не увидимся. Ты это понимаешь?
– Через неделю!.. Ну, а мы будем видеться? Мы же можем вот так же встречаться… кофе пить… разговаривать?
– Сережа, ты мой вопрос слышишь? Я спрашиваю: ты отдаешь себе отчет в том, что мы с тобой расстанемся и будем жить отдельно. Каждый своей жизнью. Мы не будем ни встречаться, ни переписываться, ни перезваниваться. Ты это понимаешь?
– Да, я это понимаю. Понимаю и принимаю, но – Марисоль! – ты можешь не напоминать об этом каждую минуту?
– Я говорю это первый раз.
– Ты каким-то магнетическим способом умудряешься сообщать мне об этом по пять раз на дню.
– Может, – вздохнула Мария, – может быть, это я себе напоминаю об этом по пять раз в день…
Они вновь замолчали. Вокруг все оживленно и бодро двигалось, звучало, но они находились на своей планете, окруженные своей прозрачной атмосферой, через которую не проникали даже посторонние звуки. Звуки окружающего мира сгорали на подлете к их столику, как сгорают метеориты в атмосфере Земли.