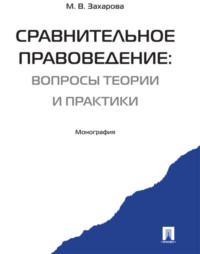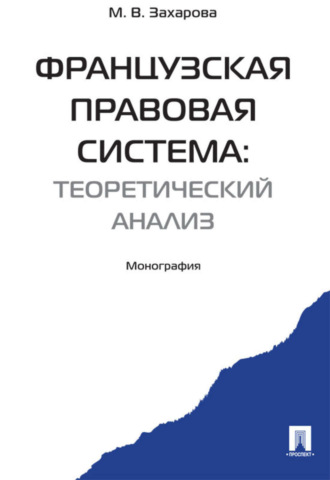
Полная версия
Французская правовая система: теоретический анализ
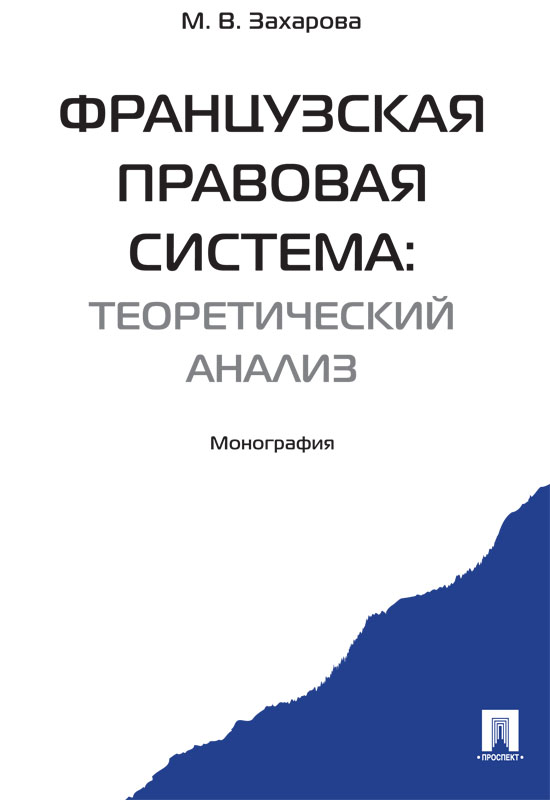
Французская правовая система: теоретический анализ

ВВЕДЕНИЕ
Французскую правовую систему современного типа актуализации следует относить к столпам мировой юридической антологии прошлого и настоящего. Известный французский компаративист Р. Леже совершенно справедливо относит ее к числу так называемых Великих правовых систем современности («Grands systèmes de droit contemporain»), то есть тех систем, которые открыли дорогу к развитию национальных правопорядков Европы, Азии, Африки и Америки, став в той или иной мере их ядерными несущими зарядами. Действительно, если мы возьмем в качестве эмпирического образчика только лишь цивилистическое наследие Франции, то без труда можем убедиться, насколько широка палитра дисперсивного влияния Французского гражданского кодекса на развитие мировой юриспруденции[1].
При этом столь весомое онтологическое наследие французской правовой системы не всегда получало и получает по сию пору должный гносеологический отклик в рамках юридической теории, как в России, так и за ее пределами.
Однако не только общекомпаративные мотивы и основания стали для нас определяющими в выборе предметной области для научных исканий.
К настоящему периоду времени общее состояние развития отечественной общей теории права таково, что ее впору переименовать в специальную теорию права, выстроенную сугубо на отечественных эмпирических базисах и конструктивных особенностях. Заявляя со страниц учебных работ о том, что предметом теории государства и права выступают общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права (выделено нами. – М.З.), мы отчасти вводим в заблуждение и самих себя, и читателей соответствующих работ. Оправданно ли сложившееся положение вещей? Безусловно, нет. В представленном контексте преодоление границ географических в нашей оценке правового феномена, нивелирование эффектов «провинционализма» и «доморощенного позитивизма»[2] в нашем его виденье способно качественно изменить ситуацию.
В российской юридической доктрине одним из заметных исследований, рассматривающих предметное поле французской правовой системы, стала работа профессора Ярославского государственного университета Порфирия Леонтьевича Карасевича «Гражданское обычное право Франции в историческом его развитии» (М., 1875). В данном случае объектом научного анализа П.Л. Карасевича стал французский национальный правопорядок доцентрализированного периода актуализации.
К настоящему периоду времени работы российских исследователей, в той или иной мере затрагивающие онтологию французской правовой системы, возможно систематизировать на два крупных блока.
Соответственно нормативный срез французской правовой системы представлен в исследованиях, имеющих внутриотраслевой и межотраслевой характер обобщенности материала.
Определенным прорывом совсем недавнего прошлого в франко-российских коммуникативных связях стал выход в свет уникальной в своей основе работы под общей редакцией Г.А. Есакова, Н. Мазека,
Ф. Мелэна-Сукраманьена (идентичная версия на русском и французском языках) «Основные начала российского и французского права». Данный проект, подготовленный в рамках года Франции в России (2010), дает ее читателям уникальную возможность ознакомиться с основными отраслевыми юридическими блоками двух стран.
Целой эпохой в развитии отечественной науки конституционного права являются исследования по одноименному отраслевому блоку Франции профессора В.В. Маклакова.
Безусловным вкладом в онтологию российской цивилистической науки стали работы, выполненные представителями уральской юридической школы. Так, в частности, под руководством заведующего кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической академии и одновременно ассоциированного профессора Университета Париж X-Нантерр В.В. Яркова состоялась в 2003 году защита диссертации на соискание степени кандидата юридических наук И.Г. Медведева на тему «Письменные доказательства в гражданском процессе России и Франции».
Ряд работ посвящен и институциональному (организационному) элементу французской правовой системы. В частности, в стенах Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина состоялась защита диссертации В.Д. Карпович «Организационно-правовые вопросы административной юстиции Франции» (1990 г.). Получили широкую популярность в науке конституционного права зарубежных стран работы, посвященные органам правосудия и правотворческим органам Французской Республики[3].
Значительное число исследований посвящалось и посвящается по сию пору такому органу государственной власти во Франции, как Конституционный совет. Речь в данном случае идет о работах таких авторов, как А.В. Антонов, К. Бешен-Головко, Л. Габиб, И. Гена, Ж. де Гилленшмидт, М.Е. Гимгина, Д.В. Даниленко, К.В. Карпенко, М.-К. Майнингер, В.В. Маклаков, Б. Матье, А.Н. Пилипенко.
Свое место в российской юридической доктрине заняли и ретроспективные исследования нормативного элемента французской правовой системы. В 2003 году свет увидела диссертационная работа на соискание степени кандидата юридических наук А.В. Александровой «Социальное законодательство Франции временного режима и Четвертой Республики».
Значительно приблизило российское юридическое сообщество к пониманию французской правовой системы и осуществление различных переводных проектов в отношении доктринальной составляющей французской юриспруденции. Неоценимый вклад в развитие франко-российских юридических связей внес первый председатель Конституционного Суда РФ, видный теоретик права и компаративист В.А. Туманов. В 1969 году вышло первое издание его перевода книги Р. Давида «Основные правовые системы современности». В дальнейшем переводы французских работ по юридической тематике были проведены в жизнь профессором Л.В. Головко: Р. Кабрияк «Кодификации» (М., 2007); профессором В.И. Даниленко: Ж.-Л. Бержель «Общая теория права» (М., 2000); профессором В.В. Маклаковым: Ж.-П. Жакке «Конституционное право и конституционные институты» (М., 2002).
Определенный срез французской правовой системы был представлен и в общекомпаративных исследованиях. Так, в частности, профессор А.В. Автономов в контексте исследования проблем ювенальной юстиции представляет нам анализ состояния дел в этом вопросе Франции – страны с давними традициями в представленной юрисдикционной спецификации[4].
Однако, несмотря на имеющийся, как видим, определенный интерес представителей отечественной юридической науки к отдельным составляющим социальной онтологии французской правовой системы[5], комплексного исследования парадигмальных основ ее функционирования в рамках юридической науки проведено не было.
За последнюю половину века чуть ли не единственной работой, в той или иной мере отражающей общетеоретические искания в отношении французского юридического порядка, следует считать двухтомное монографическое исследование, вышедшее в свет под общей редакцией Р. Давида[6]. Блестящий образчик французской юридической мысли, представленный доктринальный поиск стал поистине хрестоматийным для французских юристов середины – конца ХХ в. Но может ли эта работа в полной мере отвечать требованиям внешней среды сегодня? По объективным причинам нет. Написанная в середине XX столетия, данная работа не могла в полной мере предугадать появление новой переменной на юридических картах современности, имя которому «глобализация».
Представленная работа призвана восполнить имеющийся в отечественной юридической науке пробел относительно формирования комплексного знания о французской правовой системе различных точек временной актуализации, включая время «выхода из неолита»[7] мирового юридического сообщества – время глобализации.
Глава I
Французская правовая система и юридическая карта современного мира
§ 1. Объекты и уровни структурирования мирового юридического пространства
Любая деятельность как специфически человеческая форма активного отношения человека к миру представляет собой взаимодействие субъекта и объекта. Субъект – это носитель материальной и духовной деятельности, источник активности, направленной на объект.
Объект – то, что противостоит субъекту, на что направлена его деятельность. В отличие от объективной реальности объектом является лишь та ее часть, которая включена в деятельность субъекта[8].
Во многом проблема объектов сравнительного правоведения тесно связана с уровнями дифференциальной оценки, предпринимаемой тем или иным исследователем.
В первом издании своего эпохального произведения «Основные правовые системы современности» Рене Давид говорит о двух уровнях компаративной дифференциации. Соответственно к микроуровню компаративной оценки он относит сравнение, проводимое в рамках одной правовой семьи, к макроуровню – исследования сравнительно-правового характера, осуществляемые в пределах действительности существования различных правовых семей[9].
В дополнение к конструкции микро- и макросравнения, предложенной Р. Давидом, немецкий юрист Ф. Шрёдер[10] предложил свой вариант мезосравнения. Объектами сравнительного анализа в данном случае для означенного выше автора стали конкретные отрасли права. На наш взгляд, объктивизируемый профессором Ф. Шрёдером уровень сравнения применим скорее не ко всему сравнительному правоведению, а только к отдельной его составляющей – зарубежному праву.
Содержательно насыщенную палитру уровней дифференциальной оценки, предпринимаемой в ходе проведения компаративных исследований, мы находим у В.И. Лафитского. В данном случае речь идет о шести уровнях сравнительного правоведения – правовое пространство мира, основные правовые сообщества, семьи и группы правовых систем, формирующиеся правовые системы и сообщества, национальные правовые системы, международное право в развитии правового пространства мира и национальных правовых систем[11].
Если последовательно продвигаться в гносеологическом поиске относительно объектов сравнительного правоведения от наиболее частной категории к наиболее общему понятию, то условно можно сконструировать следующую пирамиду объектов сравнительного правоведения:

Соответственно, объектами мегауровня сравнения для данной конструкции выступают такие категории, как цивилизация и групповые сообщества правовых систем различной качественной направленности, микросравнения – идеологический (культурно-ценностный), функциональный, организационный и нормативно-правовой элементы правовой системы, а мезоуровня – правовая система как таковая.
Рассмотрим эти категории более подробно.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В череде работ по юридической компаративистике в свете исследования данного объекта сравнительного правоведения обращает на себя внимание работа профессора Л.-Ж. Константинеско. Выходя за рамки сугубо догматического подхода к праву, он, в частности, определяет теоретические основания разграничения категорий «цивилизация» и «правовая система». Каждая правовая система является, пишет он, «юридической экспрессией цивилизации» [12]. Само понятие «цивилизация», подчеркивает профессор Л.-Ж. Константинеско, использовалось еще задолго до разработки категории «правовая система» [13], оно было введено в научный оборот, как свидетельствуют последние исследования в данной области, Оноре Мирабо[14] в середине XVIII столетия, а к настоящему периоду времени получило весьма широкое распространение в научной литературе[15].
Действительно, цивилизация как мировоззренческая категория может быть признана объектом сравнительного правоведения при соблюдении двух условий проведения гносеологического поиска. Во-первых, мировоззренческой базой исследования должен выступить социологический и этнокультурный подходы к праву как феномену общественной практики. Во-вторых, основным методологическим инструментарием исследования должна стать диалектика, а не метафизика.
Особую степень актуализации выделение данного объекта сравнительного правоведения приобретает при исследовании национальных правовых систем, имеющих глубокие временные традиции и получающих свое подтверждение на каждой из ступеней исторического развития. Речь в данном случае может идти о характеристике правовой системы Китая, а также правовых систем африканского континента, чьи генетические юридические объективации не смогли перечеркнуть ни колониальные экспансии, ни тотальные глобализация и модернизация права.
Что же собой представляет данный феномен человеческого бытия?
Этимологически термин «цивилизация» восходит к латинскому слову civilis, относящемуся к качествам «гражданина» как «городского жителя». До нашего времени это значение сохранилось в слове «цивильный», по-прежнему несущем в себе (в западных языках) качества, подобающие гражданину, – учтивость, любезность, приветливость. Но значение слова постепенно расширялось, и уже Данте писал о humana civilitas как о всеобъемлющей человеческой общности в единстве[16].
Во множественном же числе, как констатирует один из основателей школы Анналов[17] Л. Февр, слово «цивилизация»[18] впервые было употреблено в 1819 г., что свидетельствовало о признании качества многообразия в цивилизационном устроении мира. В последующие годы в свет выходят ряд работ, описывающих цивилизации как пути развития различных стран[19].
На сегодняшний момент времени существуют более ста определений категории «цивилизация». Л. Лоуи не без оснований отмечал, что цивилизация есть «беспорядочная мешанина из черепков и лоскутьев»[20]. Если обратиться к энциклопедическим словарям, то можно, в частности, найти следующие описательные характеристики данного феномена:
Словарь английского языка Вебстера. Цивилизация – это
1. Уст. Акт придания уголовному процессу цивилизованного характера.
2. а) Идеальное состояние человеческой культуры, характеризующееся полным отсутствием варварства и нерационального поведения, оптимальным использованием физических, культурных, духовных и человеческих ресурсов, а также полноценное устроение индивида в обществе. (Подлинная цивилизация – это тот идеал, к которому надо стремиться); б) Особое состояние или стадия человеческого продвижения к цивилизации, т. е. либо культура, присущая определенному месту и времени (средневековая культура), либо ступень культурного развития, отмеченная изобретением письменности и хранением письменных записей, а также ступень, отмеченная урбанизацией, совершенствованием технологий (в сельском хозяйстве и промышленности), ростом населения и усложнением социальной организации (современная цивилизация).
3. Процесс становления цивилизованности: прогресс в науке, государственном управлении, а также в человеческих устремлениях и духовности.
4. Цивилизующая деятельность, особенно насильственное внедрение особого типа культуры среди населения, которому он чужд (Огромные силы нации растрачивались на кровавое внедрение цивилизации среди народов, отказывавшихся ее принимать).
5. Совокупность достижений человеческой культуры и стремлений, выходящих за пределы собственно животного уровня (Цивилизация – продвижение от каменного века).
6. Принятие нормативного типа поведения или мышления (Изысканность мыслей, манер и вкуса).
7. Территории, на которых установился относительно высокий уровень культурного и технологического развития.
8. Городской комфорт[21].
Международная энциклопедия социальных наук. Цивилизация — это категория, используемая антропологами в противопоставлении понятию примитивной или народной культуры. Как классификационная категория цивилизация включает культурные типы, которым присуща органическая гетерогенность и соответствующая ей сложная социальная структура. Цивилизованные общества имеют характерную социальную стратификацию и структуру, культуре цивилизационного типа присуща соответствующая диверсификация. Органическая гетерогенность означает наличие функциональной дифференциации субкультур, как высокой, так и низкой, иерархически упорядоченной и обыденной, городской и деревенской, составляющих целостную культурную систему единой цивилизации. С эволюционной точки зрения достижение цивилизации означает определенную ступень в развитии общества и культуры. По своей сущности цивилизация противостоит дикости и варварству – тем уровням формирования общества, которые предшествовали цивилизации в ходе развития человечества[22].
Что касается доктринальных опытов решения проблем сущностной оценки категории цивилизация, то их можно условно разделить на несколько крупных направлений.
Наиболее общее определение цивилизации дает английский историк А. Тойнби. Он представляет данный социальный феномен в виде «целостностей, части которых согласованы друг с другом и взаимосвязаны», при этом подчеркивая, что «все аспекты социальной жизни цивилизации, находящейся в стадии роста, скоординированы в единое социальное целое, где экономические, политические и культурные элементы согласованы в силу внутренней гармонии»[23].
В более узко локализированных подходах к проблеме авторы стремились отождествить цивилизации либо с уже разработанными в гуманитарной науке категориями и феноменами, либо с определенным уровнем развития общества.
Достаточно распространенным в гуманитарном наследии стало так называемое культорологическое направление в определении цивилизации. Так, для П. Сорокина цивилизации представляют собой ничто иное, как «огромные музееподобные хранилища материальной культуры, выставленные на обозрение без какой-либо системы». О. Шпенглер употреблял термин «цивилизация» для определения стадии в развитии культуры[24], когда преобладают технико-механические элементы, которые приводят культуру к гибели.
При урбанистическом взгляде на проблему цивилизация отождествлялась с городскими обществами. Следуя этой традиции, П. Бэгби определяет цивилизацию как «культуру, связанную с городами»[25]. Современный американский ученый Д. Уилкинсон также полагает, что «цивилизация – это городское общество» [26] с численностью населения не менее 10 000 человек, имеющих постоянную привязку к местности.
Не следует также забывать, что в различных доктринальных системах координат категория «цивилизация» приобретала разное смысловое значение. Так, для Н.Я. Данилевского осевой категорией теоретического анализа стала категория культурно-исторического типа, тогда как термином «цивилизация» он называл вершину в развитии самого культурно-исторического типа.
В представленном исследовании категория цивилизации употребляется в значении, приданном ей С. Хантингтоном. По его мнению, цивилизация – это самый широкий уровень культурной идентичности людей, связанный с наличием таких черт объективного порядка, как язык, история, религия, обычаи, институты, а также субъективная самоидентификация людей…[27] (Выделено нами. – М.З.).
В контексте развития юридической компаративистики одно из заметных мест принадлежит изучению такого элемента цивилизации, как правовой менталитет[28]. Правовая ментальность народа определяет специфику правового поведения индивида, тех или иных социальных или профессиональных групп, государственных органов и должностных лиц. Во многом предопределяет развертывание как национальной правовой системы как таковой, так и отдельных ее элементов. Так, например, институт «судебной защиты своих прав и законных интересов» для правовых сообществ западного типа есть естественная и неоспоримая данность, завоевание человечества, призванное сделать жизнь каждого члена общества защищенной и гарантированной, тогда как для дальневосточного правового менталитета обращение в судебные органы власти за защитой свой интересов есть поведенческая манера, не коррелирующая с традиционным миропониманием восточного человека, означающая, что он не смог проявить должную настойчивость и усердие в юрисдикционном поле досудебных примирительных процедур.
Также общее учение о цивилизациях, на наш взгляд, может стать необходимой методологической базой для изучения национальных правовых феноменов различной групповой принадлежности в развитии, в эволюционной перспективе.
Как известно, наиболее классическим взглядом на развитие цивилизаций, а значит, и юридических бытийственностей, формируемых в их основе, стала так называемая органическая научная теория. Так, А. Тойнби, продолжая во многом традиции ретроспективного анализа политико-правового пространства, заложенные еще Г. Спенсером, выделял следующие стадии развития цивилизаций: генезис, рост, надлом и распад, усматривая тем самым сходные закономерности эволюционного роста в биологическом и социальном феномене. Однако не стоит забывать, что данная научная платформа является отнюдь не единственным методологическим модулем, предложенным гуманитарной наукой по данной проблеме. С самых первых шагов своей институализации, пик которой приходится на начало ХХ столетия, она получила достаточно весомый заряд критики. Так, в частности, П. Сорокин подчеркивал, что одновариантный «органический» цикл развития цивилизаций, находящий свое подтверждение в работах О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Данилевского, – это «чрезмерно общая модель жизненного пути цивилизаций, применимая, в лучшем случае, к некоторым организованным социальным группам, выступающим как центральное звено каждой из таких “цивилизаций”… Большинство этих групп смертны и рано или поздно гибнут как отдельные единицы в социокультурном универсуме групп и народонаселения. Некоторые культурные системы, включая ту, что составляет базис “цивилизации”, также могут распадаться и погибать как целостные системные единицы. Однако одновариантная модель (рождение, созревание, гибель) никоим образом не может быть применена к какой-либо из этих цивилизаций. Поскольку совокупная культура каждой из этих “цивилизаций” никогда не была единой связанной системой, она и не может подвергнуться дезинтеграции. Точно так же она не может погибнуть целиком, так как никогда не представляла собой реального целого. Даже самый беглый анализ смысла рождения, роста, зрелости, надлома и гибели показывает бессмысленность и ошибочность этих терминов в применении к совокупному конгламерату культурных систем и скоплений, содержащихся в каждой “цивилизации”. Ни одна из этих теорий не в состоянии точно указать, ни когда зародилась та или иная “цивилизация” и каковы признаки ее зарождения, ни когда она погибнет и каковы критерии ее гибели…» [29].
СООБЩЕСТВА ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
Если выделение цивилизаций в качестве объектов сравнительно-правового научного поиска является скорее уникальной точкой научных координат, то классификация правовых систем в отдельные сообщества – это процесс, перманентно присущий юридической компаративистике с самых первых дней ее зарождения.
Проведем ретроспективный анализ научных конструкций компаративистов по данному вопросу.
В конце XIX столетия в свет вышла работа французского юриста Эрнеста Глассона, посвященная, казалось бы, достаточно узкой проблематике компаративного научного поиска[30]. Она лежала в плоскости частного права и относилась к правовому режиму процессов бракосочетания и разводов в Европе. Однако выводы, сделанные автором по ходу изложения материала, далеко выходили за пределы микроуровня компаративистики. В частности, автор, руководствуясь прежде всего генетическими базисами построения сообществ правовых систем, сделал попытку их разделения на три большие группы. Первую группу составили страны, в которых с наибольшей силой проявляется влияние римского права, – Италия, Румыния, Португалия, Греция, Испания, вторую – страны, где римское влияние невелико и право основано преимущественно на обычаях и варварском праве (Англия, Скандинавские страны, Россия), третью – правовые системы, которые вобрали в себя в равной мере черты римского и германского права (Франция, Швейцария, Германия).
Руководствуясь тем же самым историко-юридическим критерием в поиске качественной направленности родства сообществ правовых систем, аргентинский юрист Э. Мартинес-Пас выделяет четыре группы сообществ[31]:
– варварское правовое сообщество, правовой платформой которого выступают нормы обычаев, так называемых Варварских правд (национальное право Англии, Швеции и Норвегии);
– варварско-романское сообщество (национальное право Франции, Германии и Австрии);
– варварско-романо-каноническое сообщество (национальное право Португалии и Испании);
– романо-канонико-демократическое сообщество правовых систем (национальное право США, Швейцарии и России).