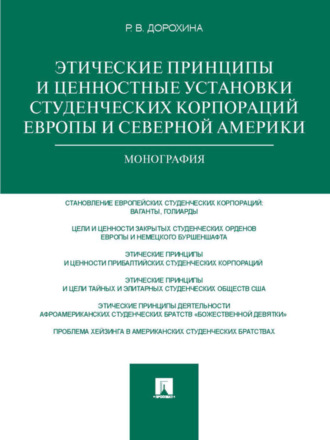
Полная версия
Этические принципы и ценностные установки студенческих корпораций Европы и Северной Америки. Монография
В поэзии вагантов преобладает любовная лирика, в основном опирающаяся на произведения Овидия. Куртуазность в этой лирике отсутствует. Она проникнута радостью земных наслаждений, характерных для плотских утех. В поэзии вагантов также наблюдается некое пренебрежение аскетикой церковной морали, где в противовес таковой воспевается Вакх с Венерой и параллельно осмеивается лицемерие высшего духовенства, которое в свою очередь отлучало вагантов от церкви вследствие распространения ими еретических учений среди народных масс. Нищенствующие ваганты осмелели настолько, что свои молитвы считали лучше молитв монахов, проповедовали бедность, но не аскетизм и, что немаловажно, – говорили о греховности Церкви. Данные веяния не прошли бесследно, именно это позже можно было наблюдать в движениях катаров и альбигойцев. По большому счету ваганты как студенческая масса не оказали особо важного влияния на развитие наук, но сыграли огромную роль в становлении ценностного мировоззрения европейского студенчества. При этом нельзя сказать, что они были малочисленны. Студентов, изучающих разные науки и переходивших из одного университета в другой, было достаточно. А те студенты, которые оставались учиться в одном университете, а потом и преподавать в нем, в итоге формировали его устойчивое академическое сообщество, которое достигло существенных научных результатов. Таким образом, движение вагантов создало условия, при которых наука стала востребованной значительной группой молодёжи и людей зрелого возраста.
В XIII в. у вагантов появляется еще одно название – голиарды («Vagoss cholares aut goliardes»). Данное выражение встречается в соборных постановлениях, осуждающих бродячих клириков. В них голиардов называют детьми Голии или сыновьями Гуля. Само братство голиардов или гульярдов появилось в XI в. и просуществовало вплоть до XVIII столетия. По одной из легенд, термин «голиард» происходит из мифа в Ветхом Завете. Согласно мифу, великана Голиафа убивает Давид, ведомый словом Божиим, принеся победу израильтянам в борьбе с филистимлянами. Данная битва метафорически отразила битву Христа с Антихристом, после чего имя Goliath приобрело значения: враг Божий, сатана, дьявол. Это имя долгое время использовалось как ругательство и, по всей вероятности, слово «голиард» являлось уничижительным названием ваганта. Одновременно с таким предположением о термине голиард существует еще один своеобразный миф о епископе Голии, которого никто никогда не видел. Он является предводителем всех школяров. Его описывают как человека очень прожорливого, любящего напиться и неплохо повеселиться. Голия имел чрезвычайный литературный дар, пользуясь которым, он писал против папы и всей римской курии бранные песни, проникнутые ругательством и бесстыдством. За полтора века до XIII столетия термин gulart, golart, golard, etc также применялся к странствующим певцам. Этимологию данного слова можно проследить от «…gula – глотка, прожорливость. Следовательно, упомянутые слова намекают на шутника, объедалу, веселого человека, поющего за пирами и живущего объедками»[16].
Откуда же появилась семья гульярдов, и кто этот загадочный Гуль? Некоторые считают его прототипом «…Мэпе – друга короля Генриха II. Его отношения с римской церковью были не всегда хорошими»[17]. Но здесь возникает некоторое несоответствие. Дело в том, что господин Мэпе жил в XII в., а орден возник в XI в. Поэтому, скорее всего, само слово восходит к термину, обозначавшему изображение попугаев на колонах церквей XI в. Попугай на старофранцузском звучит как «папа гай» (раре guay) и «папа гуль» (раре gault)»[18], что можно произнести как «папа гульярд». Попугай или «папа Гуль» в этой иерархической цепочке, скорее всего, был тем главным и высокопоставленным лицом, кому все подчинялись, но лично не знали. Также этимологию данного слова Гримм связывает с провансальским языком, где gualiar будет переводиться как «обманывать», с парижским gouailleur, как «зубоскал», «насмешник» и название слова goualeur на арго, как «певец». Все это так, и все эти определения можно отнести к голиардам, но данные выражения происходят не от действия, а от названия ордена. «Portesursa gueule» или «луженая глотка» – один из самых популярных переводов и более, как мы считаем, близок к истине тем, что он довольно точно передает характер гульярдов, занимавшихся проповедью и обучением. Ученые и монахи часто «грешили» этим на своих лекциях и проповедях: «Они мечтали о щедром меценате, о пребенде, о счастливой жизни на широкую ногу. Кажется, они хотели не столько поменять социальный порядок, сколько сделаться его новыми бенефициариями»[19].
Французский медиевист Гастон Парис выдвигает свою идею насчет имени Голии. Он полагает, что оно было присвоено французскими студентами, учениками Пьера Абеляра, которые выразили протест против письма Бернарда Клервосского папе Иннокентию II, где он обличал их учителя. Бернард называл его монахом, не подчиняющимся уставу и еретиком, указывая на его связь с вагантами. Кроме того, против Пьера Абеляра выдвинули обвинение другие университетские магистры, которые сводились к двум основным положениям: «…1) Изучение светских книг противоречит данному им монашескому обету; 2) он приступил к преподаванию богословия, не получив на это специального разрешения церковных властей»[20]. Обвинители добились осуждения Пьера Абеляра Собором 1140 г., после которого ему запретили преподавательскую деятельность. Это повлекло за собой многочисленные возмущения его учеников. В ответ на решение Собора ученики Абеляра написали сатирическую поэму «Превращение Голиафово», после чего бродячие школяры начали гордо величать себя голиардами, отражая тем самым верность своему учителю.
Такие версии происхождения голиардов мы можем увидеть в большинстве энциклопедий и немногочисленной литературе, посвященной данному братству. Немного по-другому представляет голиардов французский конспиролог и символист Грасе Д’Орсе. Он считает их не братством нищенствующих школяров, а могущественным орденом средневековой Европы, к мнению которого прислушиваются как короли, так и папы. Его книга «Язык птиц» интересна для нашего исследования тем, что очевидные истины немного по-другому интерпретированы и развернуты в совершенно ином формате. Гульярды изначально опирались на криптографию Апокалипсиса Иоанна Богослова. Отсюда они переняли стиль написания посланий тайнописью. Но из Апокалипсиса Иоанна они взяли не только тайнопись, а еще и житие первых христианских общин, описанных в этой книге, после чего создали свое сообщество со строгой иерархией и многими ритуалами, куда входили обязательные празднества и танцы. Несмотря на то, что голиарды отрицали божественную сущность Иисуса Христа и десять заповедей Моисеевых, римская церковь смотрела на это сквозь пальцы, будучи посвящённой в тайны этого ордена. Рим не только не запрещал этот орден, но и давал ему полную свободу слова и действия, выдвигая лишь одно условие: гульярды во всех своих произведениях, посланиях и любых других текстах должны пользоваться исключительно иероглифической письменностью (геральдикой), которую Рабле, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля», сам используя в своих произведениях, называл «болтовней пьяниц»[21]. Болтовня пьяниц, геральдика или тайнопись до настоящего времени широко применяются во многих закрытых организациях, таких как тамплиеры, розенкрейцеры, франкмасоны, иллюминаты и прочие. «Европа, – говорил Нис, – понемногу покрывается тайными обществами, прикрывающимися научными или литературными целями. Общества эти во все эпохи способствовали “великому делу”. Таковы были итальянские академии XV и XVII веков, литературные и научные кружки Германии в XVII веке, а также те сообщества, которые организовались в XVII веке в Англии»[22]. «Все они проникались новым духом свободы, терпимости, братства; все они стремились к равенству и все они были «международны» в своих стремлениях, ведя борьбу против национального государства, верховной христианской власти и христианской церкви. К тайным обществам принадлежали не только ученые, как Бэкон, Галией, Бойль, Комениус, Лейбниц, но и короли, принцы и государственные люди, как Карл-Густав шведский, великий курфюрст Фридрих-Вильгельм, шведский канцлер Аксель Оксенштерн, Оливер Кромвель (знаменитая Кровавая Правда Кромвеля), Христиан Ангальтский. Академии и «общества» были «рассадниками философии» и, прежде всего, заботились об утверждении понятия о «веротерпимости». Так, Помпонио Летто основал в Риме «academia romana»: в 1468 г. члены ее были арестованы и обвинены в богоотступничестве и язычестве… В Неаполе Иоанн Порта основал «academia dei secreti», которая тотчас же была закрыта, как предававшаяся «волхованию»[23]. В произведениях, написанные гульярдами, входят «Сборники голиардов», «Миф об ордене вагантов и голиардов» и «Кармина Бурана», написанная разными авторами, куда входят песни как духовного, так и сатирического, любовного, морального и содержания, одобряющего пьянство.
Уже во времена Людовика XV вся знать и все образованные люди развлекались составлением новых гербов, замысловатыми прическами и, конечно же, рисованием карикатур. Все, кто хоть в какой-то мере относились к гульярдам и любым другим тайным орденам, с легкостью могли прочесть значение герба или сделанной на сегодняшний день прически. Бывали довольно курьезные ситуации, когда парикмахер, делая прически необразованным господам, доносил до посвященной элиты секреты личной жизни клиентов, да и не только личной, но и кулуарные сплетни данного дома.
Самым древним языком иероглифического письма во Франции является язык карикатур, представленный в соборе в Вогезах. Где Карл Лысый изображен рыдающим от страха быть зараженным чумой. «У этого шаржа двойной смысл, и если при первом взгляде видна только голова плачущего человека с густой шевелюрой и бородой, то присмотревшись более внимательно, можно разглядеть, что эта голова в то же время является изображением епископа между двух лилий. Борода, усы и нос головы – это стихарь, плащ и голова епископа; лилии на его митре изогнуты таким образом, что образуют плачущие глаза, а руки оказываются льющимися слезами»[24]. К подобному рода гротескам, современные скульптуры и живописцы прибегают и сейчас.
Гульярды и масоны неоднократно обращались к подобного рода гротескам. Схожесть ритуалов и поклонение святому Гулю (Галлу, Гели) приводило к неоднозначному выводу, – масоны и гульярды являются одним и тем же обществом. Но гульярды отрицали все еврейские традиции, все десять заповедей, данные пророку Моисею, следовательно, теория возникновения названия гульярдов от имени Голиафа отпадает сама собой.
Трапеза для гульярдов являлась важнейшим священнодействием, граничащим с таинством евхаристии в христианстве. Еда и питье, твердое и жидкое, объединенные вместе, давали гульярдам название «потроха» или «внутренности», символ, которым они называли владыку вселенной. Приветствуя друг друга, гульярды показывали тыльную сторону левой руки, что переводилось таким образом: я люблю потроха, и это было основным определительным знаком принадлежности к ордену. Почему именно «потроха» гульярды избрали для обозначения Великого Архитектора? Ответ напрашивается сам собой: те, кто работает головой, а не руками, создает вселенную, не пошевелив и пальцем, рассматривается как «внутренности» произведений искусства. Такое учение о «потрохах» гульярды переняли от про-масонов древности. Таким образом, Платон в «Пире» изложил все тайны промасонства, как своего, так и настоящего времени. Платон писал загадками, и единственный человек, который в достаточной мере смог его понять, был Франсуа Рабле. Он тоже, как и Платон, писал загадками, вводя в ленту повествования разнообразные истории и сказки, и когда в своих рассказах подводил итог, ставил человека перед определенным фактом, так что уже читатель не мог сосредоточиться на этом моменте, вследствие того, что его внимание было поглощено яркостью создавшихся красок. «Автор, для того чтобы передать свои идеи, пишет книгу. Зашифровывая знаки, он использует материальные элементы, которые так же будут доступны человеку, несущему данную идею знаков. Кодируя информацию в виде знаков, семиотическая система является хранителем информации. Книга, таким образом, является материальным носителем информации, своеобразной субстанцией для передачи идей»[25]. Таким образом, его рассказы, как информационный носитель тайных текстов, могли прочесть только посвященные, на кого они в принципе и рассчитывались.
Но данный способ передачи информации был далеко небезопасен, так как он мог открыть тайны ордена гульярдов и его доктрины. И все же орден продолжал пользоваться тайнописью, излагая свои доктрины в зашифрованной форме. С появлением зашифрованного языка «как системы кодов, обозначающих предметы, действия, качества, отношения, человек получает как бы новое измерение сознания»[26]. Многим художникам-карикатуристам своего времени все-таки удавалось передавать доктрины учения посредством специально издаваемых журналов, выпускаемых для этой цели. Художники-гульярды представляли сюжеты по всем правилам каллиграфического искусства, и эти журналы, как правило, сообщали посвященному кругу лиц все тайны королевского двора, военные слухи и многое другое, что касалось политики. «При Людовике XIV была обнаружена коллекция, известная под названием “Конфузы Парижа”, которая оказалась настоящей шифрованной газетой, регулярно выходившей в свет, и для того, чтобы было легче расшифровать ее иероглифы, там, рядом с рисунками, размещалось большое количество подписей, из которых можно было узнать то, что нельзя было передать при помощи рисунка»[27]. Любой вступающий в орден гульярдов должен был уметь рисовать или заставить окружающих верить в это. Владея искусством рисования, нужно изготовить оригинальную вещицу, не имеющую аналогов, после чего закрепить какую-либо сделку своим рисунком и, если он получится удачным, использовать его как печать.
XIII в. стал закатом поэзии как вагантов, так позднее и голиардов. С появлением нищенствующих монашеских орденов в Европе умы людей все более и более захватывали монахи-проповедники, понемногу оттесняя вагантскую лирику. Немалую роль в этом деле сыграли и церковные репрессии: за вольнодумство и слишком смелое поведение, странствующих монахов вешали. Более благоразумные из них, наоборот, обретали приходы и школы. Но лишь немногие из вагантов смогли продолжить совою деятельность в университетах. Большая часть, имея страсть к странствию, так и не обрела того, к чему стремилась всю жизнь: к познанию и покою в стенах родной альма-матер. Что не смогли сделать голиарды, то сделали церковные и светские власти: упорядочили школьную жизнь. К этому времени поэзия голиардов выполнила свою основную функцию. Затем эту функцию переняла художественная литература, заставившая по-иному звучать уже на родном языке.
Ваганты и голиарды сыграли большую роль в развитии европейского образования. Благодаря им было создано студенчество как независимая интернациональная группа, чьё ценностное сознание было направлено на получение знания, развитие творческих способностей и передачу знаний новым поколениям. Требовалось только организовать их деятельность в виде постоянного сообщества, имеющего свою территорию и определённый цеховой статус. Эту роль сыграли первые европейские университеты. Безусловным лидером среди них в XIII в. по развитию корпоративной организации стал Парижский университет. Стоит отметить, что образование отдельных факультетов началось именно с Парижа, и их форму, и статус переняли впоследствии уже другие университеты, особенно германские. Факультеты возникли как организация преподавателей отдельных дисциплин, во главе которых стояли деканы. Профессора на этих факультетах, чтобы иметь большую свободу преподавания и занятий научной работой, образовали академическую корпорацию, опирающуюся на правовые основы, вследствие чего получившие определенные привилегии. Точкой опоры для развития факультетов послужила булла папы Григория IX «Parens scientiarum» 1231 г., которую также называют «великою хартией» (magna charta) Парижского университета. В ней говорится о том, что факультеты могут сами «устанавливать уставы и порядки, какие окажутся нужными, относительно способа и часов чтения, относительно диспутаций, костюма, погребения умерших, относительно бакалавров… таксирования квартир, дисциплинарных мер против ослушников»[28]. При этом исключение из факультета рассматривалось как исключение из всего университета.
В процессе развития Парижского университета кроме факультетов принимали участие так же и нации, которые считались самыми старыми университетскими сообществами. К этому времени различные землячества соединились в четыре обширные нации: английскую (впоследствии переименованную в «германскую»), норманнскую, галльскую и пикардийскую. Во главе наций стояли прокураторы, а над всеми ними – ректор. Четыре нации в дальнейшем развились в автономные корпорации, имеющие свои печати с сороковых годов XIII в., еще до того, как их получили факультеты и сам университет. Помимо печати, нация имела регистрационные журналы, доходы и расходы, собственных казначеев и педелей. В то время как «факультеты развились на учебной почве в отношении к преподаваемым наукам, нации образовались для взаимной поддержки, для дисциплины в видах административных вообще»[29]. Нации участвовали в работе всех университетских управленческих органов, обязательно участвовали в выборах ректора и руководителей факультетов.
Германские университеты заимствовали от своих образцов (Париж, Болонья) не только саму схему управления, но и ее структуру. «Факультетское деление – пишет Ф. Паульсен, – имеет своим предметом науку; функции факультетов заключаются в преподавании, в испытаниях и в награждении учеными степенями; во главе факультетов стоят избранные ими деканы. Расчленение на нации имеет в виду цели самоуправления и суда; во главе наций стоят избранные ими прокураторы. Во главе всего университета стоит ректор, избираемый нациями, состоящими из магистров и учеников»[30]. Немецкие университетские корпорации также строились по принципу наций и возникли уже в первых германских университетах (в Пражском – 1348 г., в Венском – 1365 г., в Гейдельбергском – 1386 г.). Дальнейшее развитие корпораций было связано с борьбой властей и профессоров за главенствующую роль в их управлении.
Вывод. Первые студенческие объединения появились в средневековых университетах, принимавших учиться приезжих со всех концов Европы. Возникнув на базе общности национальной принадлежности и географической местности учеников и профессоров, они содействовали развитию корпоративных отношений как внутри университета, так и между студентами. Появилась особая этика отношений между студентами и профессорами, основанная на взаимном уважении и стремлении к знаниям. Во время учебы постепенно сглаживалась классовая и сословная рознь, вырабатывался регламент в отношении поведения студента как внутри университета, так и в общественных местах. Можно утверждать, что первые студенческие корпорации Европы заложили основу не только научной этики, основанной на ценностях свободного и объективного изучения окружающего мира и человека, но и внесли свой вклад в обоснование автономии личности. Благодаря их научному и художественному поиску были заложены основы интеллектуального и нравственного возрождения Европы эпохи Ренессанса.
§ 1.2. Цели и ценности закрытых
студенческих орденов Европы и немецкого
буршеншафта
Начиная со второй половины XVIII в. в Западной Европе стали появляться новые разновидности корпораций. Одной из таких разновидностей были ордена, по своей иерархической структуре, характеру деятельности и идеологии похожие на масонство. Ордена являлись закрытыми организациями, и их члены давали обет молчания относительно действий корпораций. К этому времени главных орденов насчитывалось четыре: Amicisten, Unitisten, Konstantisten и Harmonisten. В корпорацию-орден Harmonisten входили не только студенты, но также офицеры и бюргеры. В 1778 г. ордена были запрещены в Германии.
Ордена возникали на почве землячества и первоначально работали как закрытые тайные организации. К таковым относился орден мозельцев, существующий с давних пор в Йене. Землячество мозельцев со временем стало обществом «собутыльников»[31], в котором практиковались дуэли и распущенность, где любое излишество возводилось в ранг добродетели. В противовес данному студенческому обществу в 1771 г. был образован L’Ordre de I’Amitie («Орден Дружбы») из более достойных и умеренных в своих желаниях студентов. Этот орден и стал коллегией избранных, стремящихся к получению знаний учеников.
Прием в орден сопровождался определенными ритуалами. Время для посвящения выбирали в полночь. «У задней стены ложи помещался алтарь, покрытый скатертью оранжевого цвета. На одном углу его стояли и лежали подсвечники с восковыми свечами, череп с двумя ручными костями, 4 рапиры, сложенные в виде орденского креста, между ними – книга законов в переплете из оранжевого бархата, справа и слева песочные часы. Перед алтарем стоял постамент и на нем чаша со спиртом, пред постаментом подушка для коленопреклонения. За алтарем сидели мастер, младший мастер и секретарь в черных одеждах; перед ними полукругом сидели братья с обнаженными шпагами, без сюртуков и жилетов, с оранжевыми орденскими лентами и крестами»[32]. И в ночной темноте, при слабом мерцании горящего спирта мастер говорил о дружбе и человечестве, после чего все пели гимн.
Затем мастер в очередной раз задавал вопрос о приеме кандидата в орден и, если не было возражений, церемониймейстер, приводя кандидата, три раза стучал в дверь и, ответив на вопрос о причине стука, вводил кандидата. «Наконец, кандидата, без сюртука и жилета, с завязанными глазами, впускали и три раза поворачивали его кругом; затем мастер требовал у него честного слова в том, что он ничего не выдаст из всего виденного и слышанного. При этом братья заносили свои шпаги над его головой»[33]. После такой процедуры следовало пение, и кандидату снимали повязку. Далее зачитывались законы ордена и у кандидата спрашивали, действительно ли у него не изменилось решение стать членом ордена. Если кандидат давал положительный ответ, то ему говорили о значении и святости присяги. «Затем кандидат опускался на колени, братья приставляли к его груди рапиры и, положив указательный палец на шпагу мастера, он повторял за ним слова клятвы»[34]. Данный ритуал посвящения заканчивался словами мастера: «Все шпаги, которые направлены против тебя, послужат как в твою защиту, так и для наказания тебя, если ты нарушишь клятву»[35].
Орден амицистов изначально предполагал дружбу всех членов до самой смерти. Даже после окончания университета члены ордена не забывали о братьях, помогали устраиваться на доходные места и, если того требовала ситуация, жертвовали своей жизнью ради блага ордена.
Первоначально орден амицистов вел достаточно строгую аскетическую и добродетельную жизнь. Он преследовал целью исправление грубых нравов мозельцев, но такое положение дел было довольно непродолжительным. Второй сениор, «архи-пьяница и распутник»[36], довел орден до упадка. Собрав вокруг ордена старшин всех землячеств, сениор-распутник оставил за собой право руководить всем студенчеством. В течение продолжительного периода правления второго сениора ни один студент не был застрахован от издевок и беспричинных побоев. Такая разгульная жизнь братьев ордена продолжалась с 1772 по 1779 г., пока терпение университетского начальства не истощилось, и они не прикрыли орден. Но оставшиеся амицисты все-таки продолжали считать себя главарями студенчества, за что впоследствии и поплатились. Расследование, произведенное в 1781 г., окончилось их исключением и высылкой из университета, что не сломило дух братьев ордена. Оставшиеся братья, преданные ордену, уже в 1783 г. вновь образовали землячество, после чего возродили орден в изначальном обличье.
Немного позже орден амицистов разделился на два лагеря. Изначальные амицисты как были задирами и пьяницами, так ими и остались, а дочерняя ложа ордена предпочла деспотизму и разгульному образу жизни занятия наукой и религией. С 1793 г. ученая ложа стала называть себя иначе: «Zu Den Drei Schwertern» («Среди трёх мечей»). С изменением названия ордена изменились и основные концепции, которые из простого студенческого общества сделали масонскую ложу. Узнав об этих изменениях, университетское начальство исключило из университета всех амицистов, после чего ложа прекратила свое существование.
Кроме того, после закрытия ордена амицистов в 1781 г., оставшиеся члены ордена образовали новую организацию с прежним уставом, но отличительной чертой – благородным происхождением. В студенческой среде членов этого ордена прозвали «Черными братьями». Но, несмотря на добрые намерения братьев, орден вернулся к прежним деяниям и образу жизни. И когда орден амицистов вновь открылся, «Черные братья» не захотели присоединиться к нему и приняли шотландскую систему 1785 года, под названием «Ордена Гармонистов» с новым названием ложи «Christian zu den Sieben goldenen Sternen» («Христиане Семи Золотых Звёзд»).

