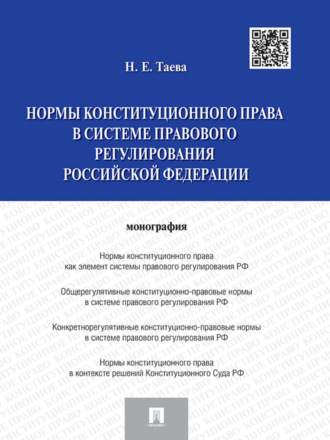
Полная версия
Нормы конституционного права в системе правового регулирования Российской Федерации
А. Ф. Черданцев пишет, что в случае, если основополагающие идеи не сформулированы в виде отдельной нормы или не могут быть выведены индуктивным путем из совокупности норм, е могут рассматриваться как принципы права225.
С точки зрения В. Д. Филимонова содержание правовых принципов должно быть раскрыто, а это возможно лишь в самом тексте закона226. То есть существование принципов вне законодательного текста исследователем отрицается.
В. М. Реуф по данной проблеме пишет: «Принципы права как основополагающие правовые идеи, выражающие сущность права и определяющие его содержание, предполагают закрепление в законодательстве в той или иной форме»227. Исследователь вслед за многими теоретиками считает, что принципы права по своей природе принадлежат к области идей. Однако, с точки зрения В. М. Реуфа, чтобы отличать принципы права от других правовых идей (правосознания, правовой идеологии) следует выделить их отличительный признак – отражение принципов права в том или ином виде в правовых нормах228.
По мнению Н. А. Бутаковой «все принципы права, несмотря на их различную градацию и классификацию, должны отражаться в конкретных нормах права. В противном случае они утратят способность положительно воздействовать на общественные отношения. Полагаем, что мнение о существовании принципов права в форме общих руководящих идей права, не закрепленных законодательно, делает их категорией иллюзорной и крайне субъективной. Поэтому, на наш взгляд, принципы права как основополагающие идеи, наиболее правильно и адекватно отражающие социальную действительность в соответствии с достигнутым в обществе на данный момент уровнем ее познания, должны существовать только в определенной форме права (нормативном акте и т. п.)»229.
Только факт закрепления идеи в нормативном акте, по мнению М. Л. Давыдовой, позволяет со всей определенностью говорить о наличии того или иного правового принципа, от которого в дальнейшем и будет отталкиваться в своем развитии юридическая наука и практика230.
В разрешении этого спора нам представляется верной точка зрения М. И. Байтина и В. К. Бабаева, которые писали следующее: «Регулирующая роль принципов права неразрывно связана с их законодательным закреплением. Она тем значительнее, чем полнее и последовательнее принципы права выражены в законодательстве. Принцип права, закрепленный в законодательном предписании, становится нормой-принципом». Вместе с тем, продолжают исследователи, о полном и четком законодательном закреплении всех принципов права говорить пока не приходится, так как полнота законодательного выражения принципов права зависит и от уровня правотворческой деятельности и от состояния разработки теории принципов в юридической науке. Представляется, что далеко не все принципы права закреплены в законодательстве»231.
Действительно, правовая наука не стоит на месте в разработке содержания правовых принципов, за чем не всегда успевает законодатель. Кроме того, основываясь на современных реалиях, можно говорить о существовании неписаных принципов, которые активно используются в практике Конституционного Суда РФ. Необходимо разграничивать принципы как правовые установления, получившие закрепление в нормах права и ставшие нормами-принципами и принципы как правовые идеи, которые могут воплощаться в теоретических построениях науки232, выражаться в судебной практике. Итак, принципы права в законодательстве получают свое объективное закрепление. Между тем, они могут существовать и в виде идей, не получивших законодательного закрепления.
Каковы же способы закрепления правовых принципов в законодательстве?
Ряд ученых считает, что существует два таких способа: прямой (когда правовая норма фиксирует принцип) или косвенный (когда принцип выводится из смысла нормы).
Так, Н. И. Матузов, А. В. Малько определяли принципы права как основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора. Эти идеи воплощают закономерности права, его природу и социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла233. Таким образом, по их мнению, не все правовые принципы напрямую закреплены в законах. Некоторые следуют из смысла законов.
Однако закрепление правовых принципов в законодательстве двумя способами – прямым и косвенным вызывает ряд вопросов.
Во-первых, это вопрос о первичности принципа права по отношению к норме права. Здесь, на наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения А. М. Васильева, который писал, что косвенный путь фиксации правовых принципов в праве нуждается в ином наименовании, ибо, когда речь идет о «принципах, выводимых из норм права», соотношению принципов и норм права придается обратное значение234. То есть встает вопрос – что первично – принципы права или нормы права? Конечно, принципы права. А значит, не принципы права выводятся из смысла норм, а принципы обусловливают содержание норм права. О. Е. Рычагова, например, по проблеме первичности правовых принципов пишет следующее: «В нормативистской парадигме под правовыми принципами обычно понимают закрепленные в действующем законодательстве основополагающие идеи, выражающие сущность права. Но если правовые принципы включаются в саму систему права как ее составные элементы, то как они могут выполнять системообразующую функцию? До сих пор не известны системы, обладающие своеобразным «вечным двигателем» внутри, и право – не исключение. Дело в том, что системообразующий фактор может быть отражен в системе, однако он должен быть первичным по отношению к ней. Именно поэтому правовые принципы по своей сущности должны быть первичными по отношению к нормам права. Они обусловливают нормы права, но сами по себе не могут быть этими нормами права обусловлены»235.
Вместе с тем, правовой принцип может быть напрямую выражен не в одной норме конституционного права, а в совокупности норм. При этом говорить о каком-либо косвенном закреплении принципа в этом случае не приходится. Так, например, в своей монографии, посвященной конституционным принципам и презумпциям, С. А. Мосин подробно анализирует принцип конституционности деятельности участников конституционных правоотношений; принцип конституционности нормативных правовых актов, принцип конституционности деятельности органов власти и должностных лиц, принцип добросовестности участников конституционных правоотношений, принцип добросовестности законодателя236.
Во-вторых, представляется неверным говорить о том, что правовые принципы закреплены в законодательстве двумя способами – напрямую и косвенно еще и по той причине, что нет норм, в которых бы не проявлялись правовые принципы, которые не были бы обусловлены правовыми принципами. Никакая норма права конкретнорегулирующего характера или общерегулятивная (дефиниция, коллизионная норма и др.) не может быть принята законодателем без ориентира на принципы права. В таком случае выходит, что принципы права проявляются через все без исключения правовые нормы.
Из всего вышесказанного нам важно следующее:
• правовые принципы могут закрепляться в законодательстве;
• правовые принципы могут прямо формулироваться в текстах нормативных правовых актов.
Правовой принцип первичен по отношению к норме права.
Являются ли правовые принципы, напрямую закрепленные в законодательстве, нормами-принципами? Здесь среди исследователей также нет единства.
Н. Г. Александров, рассматривая вопрос о видах правовых норм, выделял нормы-принципы, которые непосредственно не регулируют общественные отношения, не создают для их участников прав и обязанностей. Но воздействуют на общественные отношения тем, что указывают принципиальное направление правового нормативного регулирования какой-то большой группы общественных отношений (например, по мнению Н. Г. Александрова, это многие нормы Конституции)237.
По мнению П. Е. Недбайло принципы права «по своей юридической природе и сущности представляют собой нормы права, но лишь с более общим и принципиальным содержанием»238.
Существование норм-принципов признает Ю. А. Тихомиров239, И. Э. Звечаровский240, М. И. Байтин и В. К. Бабаев241, М. Л. Давыдова242.
В. Д. Филимонов считает правовые предписания, определяющие принципы права, нормами права, так как они обладают признаками, присущими нормам права243.
С точки зрения В. Н. Карташова принципы права легально выражаются в нормативных правовых актах. Но не все из них являются нормами-принципами. Лишь «некоторые нормы права в силу своей социально-правовой значимости и фундаментальности могут выступать одновременно и в качестве принципов права. В этом случае необходимо говорить о нормах-принципах»244.
О. А. Кузнецова по этой проблеме пишет, что «при прямом (непосредственном, текстуальном) закреплении принципов права в нормативном акте мы можем говорить о наличии в правовом массиве особых норм-принципов»245.
С существованием норм-принципов согласен Н. С. Малеин. По его мнению, принципы как идеи являются категорией правосознания. Из сферы правосознания идеи-принципы переходят в сферу правотворчества, объективируясь в нормах права и правоотношениях. Однако, по мнению Н. С. Малеина, наряду с принципами-нормами существуют так называемые принципы-законоположения. Нормативность, поясняет исследователь, выражается в точном, ясном определении в букве закона прав, обязанностей, ответственности субъектам правоотношения, которым адресована норма. «Принципы-нормы, – пишет он, – благодаря своей конкретности, ясности, не допускающей неоднозначного понимания и толкования, могут и должны непосредственно применяться при разрешении конкретных дел всеми общими и специальными судами. Так, если суд признает несоответствие нормативного акта (закона) принципу-норме, он обязан решать дело на основе принципа-нормы.»246. «Однако, – считает Н. С. Малеин, – не все правовые принципы обладают качеством нормативности. Не имеют нормативного характера те из них, которые не зафиксированы в конституционных и других законах, а также некоторые принципы, хотя и нашедшие отражение в законодательстве, но не представляющие собой четкие правила, не формулирующие конкретные правила поведения»247. Это, так называемые принципы-законоположения. Принципы-законоположения реализуются обычно в сочетании с другими правовыми актами.
Среди конституционалистов существование норм-принципов признавали В. С. Основин, В. Д. Мазаев, В. О. Лучин, Ю. Л. Шульженко, Н. А. Богданова248.
Термин нормы-принципы мы встречаем и в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 г. сказано, что «согласно Европейской конвенции о возмещении вреда жертвам насильственных преступлений (заключена 24 ноября 1983 года, Российской Федерацией не ратифицирована), носящей общий характер и действующей в совокупности с другими нормами-принципами, которыми обеспечиваются общепризнанные права и свободы, закрепленные в том числе в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколах к ней, в случаях когда возмещение ущерба не может быть обеспечено из других источников, государство должно взять на себя эту обязанность (статья 2), устанавливая необходимые пределы, условия и порядок его выплаты (статьи 2–9)»249. В Определении от 6 марта 2008 г. № 214–О – П250 Конституционный Суд РФ определяет норму части 4 статьи 12 Федерального закона 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляющую требование об обязательном учете мнения населения при изменении границ муниципальных районов и поселений как норму-принцип.
В науке имеются исследователи, которые отрицают существование норм-принципов. С тем, что правовые принципы закрепляются в законодательстве, согласен В. И. Бородянский. Однако исследователь не считает их нормами-принципами, относя их наряду с правовыми дефинициями и презумпциями к особым правовым феноменам. По мнению В. И. Бородянского фактическое отождествление норм и принципов права нельзя признать корректным уже в этимологическом плане. Известно, пишет В. И. Бородянский, что термин «норма» (лат. – norma) означает правило, точное предписание, образец, в то время как «принцип» (лат. – principium) – начало, основание, основное исходное положение. Но дело, конечно, не только в этимологии данных понятий. Далее В. И. Бородянский пишет: «Относя статьи закона, закрепляющие принципы права, к правовым нормам, авторы данного подхода тем самым ограничивают перечень принципов права сферой правосознания, с чем нельзя согласиться. Данное обстоятельство свидетельствует также о фактическом смешении статей нормативного правового акта и правовых норм. Между тем статьи нормативного правового акта, как известно, выступают формой права, а не только формой правовых норм. Кроме правовых норм содержание права включает в себя и другие правовые феномены, в том числе принципы права, правовые дефиниции, общие дозволения и общие запреты, правовые презумпции, правовые аксиомы и так далее, которые также могут приобретать нормативную форму, то есть находить соответствующее закрепление в статьях законов. Однако, будучи закрепленными в законе, эти и другие правовые феномены не становятся нормами права, а лишь наряду с ними включаются в механизм нормативно-правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений. Таким образом, обеспечивается отражение (задействование) в структуре нормативного акта регулирующего потенциала не только норм права, содержащих конкретные правовые предписания, но и других правовых феноменов, в том числе принципов права. Сведение же содержания всех статей закона к нормам права необоснованно сужает регулятивную функцию права, оставляет за рамками нормативно-правового регулирования целый ряд важнейших элементов его структуры»251.
На наш взгляд, говоря о соотношении понятий «принцип права» и «норма-принцип» можно указать следующее:
1. Следует признать существование норм-принципов как разновидности общерегулятивных норм конституционного права. Принцип права, закрепленный в законодательстве, становится нормой-принципом со всеми присущими норме признаками: содержит правило поведения; имеет непосредственную связь с государством; обладает общеобязательностью, формальной определенностью, нормативностью (распространяется на неограниченное число случаев и неопределенный круг лиц); обеспечен мерами государственного принуждения. Кроме того, необходимо отметить, что нормы-принципы в конституционном праве действуют напрямую, непосредственно и могут быть положены в основу судебного решения. Безусловно, значительное регулирующее действие нормы-принципы осуществляют через конкретнорегулятивные нормы. Однако и сами по себе они являются регулятором общественных отношений.
2. Не все принципы права напрямую закреплены в нормах права и, таким образом, являются нормами – принципами. Некоторые правовые принципы отражены в содержании норм, обусловливают их содержание. В конституционном законодательстве напрямую закреплено много норм-принципов. Так, например, только в Конституции Российской Федерации содержаться следующие нормы-принципы: принцип разделения властей (ст. 10); принцип, признающий человека, его права и свободы высшей ценностью (ст. 2); принцип единого и равного гражданства (ст. 6); принцип суверенитета (Ст. 4); принцип социального государства (ст. 7); принцип единства экономического пространства (ст. 8); принцип идеологического и политического многообразия (ст. 13); принцип равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 19) и так далее. Это далеко не полный перечень принципов, закрепленных в нормах Конституции Российской Федерации. В науке отмечается, что правовые принципы получают свое наиболее полное выражение именно в нормах Конституции, усиливая тем самым ее нормативность и придавая ей значение как важнейшего политико-правового и социально-экономического документа252. Преобладание норм-принципов в Конституции РФ не является исключением. В юридической литературе отмечается тенденция возрастания в большинстве стран удельного веса норм-принципов в текстах писаных конституций в течение ХХ века253.
Среди конституционно-правовых актов имеются так называемые законы «об общих принципах…». Это ФЗ от 6 октября 1999 № 184–ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»254; ФЗ от 20 июля 2000 г. № 104–ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»255, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6–ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»256. Несмотря на название указанных законов, они содержат не только нормы-принципы, но и нормы конкретнорегулирующего характера. Вместе с тем, содержание этих законов обусловили исходные начала, основы, принципы соответствующей сферы жизни общества.
3. Не все принципы права напрямую закреплены или проявляются в законодательстве. Следует признать существование правовых принципов вне законодательства: в виде правовых идей, вырабатываемых в науке конституционного права или на практике. Правовой принцип – категория объективная, существующая помимо воли и желания законодателя. В законодательстве закреплены, в первую очередь принципы, имеющие наиболее важное значение в данных исторических условиях. Кроме того, ряд объективно существующих и нуждающихся в законодательном закреплении принципов права тем не менее формально не определен. Это связано, прежде всего, с недостаточно высоким уровнем правотворчества, а также с наличием большого числа спорных вопросов в теории принципов права, разрабатываемой юридической наукой. Н. А. Богданова верно отмечает, что принципы – правовые идеи, воплощенные в теоретических построениях науки косвенно определяют содержание и направление конституционно-правового регулирования257. Важность сказанного для целей нашей работы заключается в том, что существующие в иных формах правовые принципы являются потенциальными нормами-принципами, могут быть в будущем закреплены в законодательстве.
В связи с проблемой формализации правовых принципов возникает вопрос о возможности применения судами принципов, которые не получили письменного закрепления. Так, по мнению И. А. Алебастровой, юридическую силу имеют в Российской Федерации лишь те конституционные принципы, которые получили в Конституции РФ прямое вербальное выражение258. В результате, исследователь приходит к выводу о том, что в качестве юридического основания признания тех или иных норм неконституционными Конституционный Суд РФ может ссылаться только на конкретные статьи Конституции РФ.
Вместе с тем, представляется, что юридическое основание ссылаться на неписаные принципы у Конституционного Суда РФ все-таки есть. Дело в том, что в основу Конституции РФ 1993 г. впервые была заложена естественно-правовая концепция правопонимания, в отличие от существовавшей у нас в советский период позитивистской концепции. Естественно-правовой тип правопонимания основан на признании в качестве основного источника позитивного права естественных прав и свобод человека и гражданина259. Это прямо закреплено в ст. 2 Конституции РФ, признающей высшей ценностью права и свободы личности. Суть указанного типа правопонимания сводится к признанию естественного характера прав и свобод, принадлежности их человеку от рождения и, следовательно, их неотчуждаемости (ст. 17, 18, 19 Конституции РФ). С естественно-правовым подходом связано наличие в Конституции РФ норм о России как правовом государстве, о приоритете общепризнанных принципов и норм международного права.
Закрепление естественно-правового подхода в нормах Конституции РФ приводит к тому, что при рассмотрении дел Конституционный Суд РФ зачастую ссылается в качестве мотивировки своего решения на абстрактные, не получившие письменного закрепления принципы. В результате в решениях Конституционного Суда РФ мы видим ссылки на так называемые общечеловеческие ценности, естественное право, социальную справедливость, общие принципы права и прочее. Так, в Постановлении от 1 февраля 2005 г. № 1–П Конституционный Суд РФ260 указал на то, что при установлении критериев численности политических партий федеральный законодатель должен руководствоваться принципами соразмерности и разумной достаточности (курсив наш. – Н. Т.). Решение Суда в указанном примере основано на абстрактных, формально не закрепленных принципах. Проблема заключается в том, что неформализованный принцип может быть интерпретирован в практике суда по-разному. При этом, речь идет не столько об учете обстоятельств конкретного дела, сколько об учете конкретной исторической обстановки, политической ситуации и расстановки политических сил. Ни для кого не секрет, что многие решения органа конституционного контроля являются конъюнктурными, часто имеют пропрезидентскую позицию, отстаивают интересы федеральные в ущерб интересам субъектов федерации. Хрестоматийными примерами такого противоречивого толкования одних и тех же норм Конституционным Судом РФ являются решения о порядке наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации261.
В целом, под нормами-принципами конституционного права мы будем понимать общеобязательные формально-определенные, установленные или санкционированные государством и им охраняемые предписания, содержащие основные идеи, отражающие сущность конституционно-правовых явлений. Конституционно-правовые нормы-принципы относятся к общерегулятивным или исходным нормам и занимают особое место в системе правового регулирования Российской Федерации.
Юридическое значение норм-принципов в конституционном праве заключается в следующем:
– Конституционные нормы-принципы – это четко закрепленный ориентир для законодателя при создании им новых правовых норм. Они позволяют «избежать волюнтаризма законодателя, который действует в установленной системе координат»262. Законодатель не может создать норму, не соотнеся ее с нормой-принципом. В результате никакая конституционно-правовая норма не должна противоречить норме – принципу. Например, в ст. 13 Конституции Российской Федерации закреплен принцип идеологического многообразия. И уже на основе этого принципа действуют нормы о свободе слова, свободе информации, запрете цензуры, свободе преподавания и др. Статья 19 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип равноправия. Характеризуя данный принцип, Н. С. Бондарь и Ю. В. Капранова пишут: «Проникновение принципа равноправия в систему прав и свобод прослеживается в содержании практически всех статей главы 2 Конституции. Терминологически это выражено в формулировках «равные обязанности» (ч. 2 ст. 6), «равным образом» (ст. 8), «равны перед законом» (ч. 4 ст. 13, ч. 2 ст. 14), «равные возможности» (ст. 20), «равный доступ» (ч. 4 ст. 32), «наравне» (ч. 3 ст. 62) и т. д. Все эти формулировки означают прямое указание на равный правовой статус граждан России. Более того, проникновение принципа равноправия в систему прав и свобод человека и гражданина прослеживается на уровне их регулирования»263. Исследование правовых предписаний, содержащих принципы права, дает возможность выработать рекомендации по совершенствованию законодательства264.
– Конституционные нормы-принципы имеют важное значение для правоприменения. В первую очередь, существование норм-принципов ограничивает произвол правоприменителя. Как верно указывала О. А. Кузнецова, любой практик «применяет не основные правовые идеи, не руководящие юридические начала, не главные законодательные положения, а реальную норму права»265. Правоприменительное значение конституционных норм-принципов заключается также в том, что они могут быть положены в основу судебного решения, то есть применяться напрямую непосредственно. Примером такого судебного решения является Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10–П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции республики Алтай и федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»266. В Конституционном Суде Российской Федерации оспаривалась конституционность положений о суверенитете республики, включенных в Конституцию республики Алтай. Конституционный Суд Российской Федерации вынес решение об отсутствии у республик, входящих в состав Российской Федерации, суверенитета. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу основывалось на закрепленных в Конституции Российской Федерации принципах суверенитета (ст. 4), государственной целостности и единства системы государственной власти (ч. 3 ст. 5), верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов, которые имеют прямое действие и применяются на всей территории Российской Федерации, включающей в себя территории ее субъектов (статья 4, часть 2; статья 15, часть 1; статья 67, часть 1); принципа равноправия всех субъектов Российской Федерации, в том числе в их взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5).



