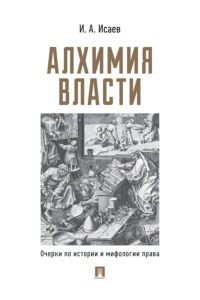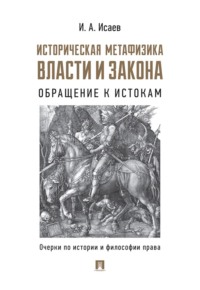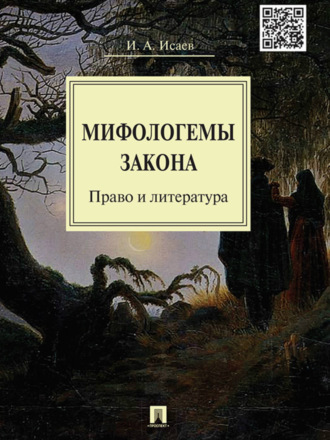
Полная версия
Мифологемы закона: право и литература. Монография
В «Прорицании провидицы» (тексте, примыкающем к Старшей Эдде) идея неизбежности борьбы между разрушающими и хаотическими силами, носителями которых были враждебные богам чудовища и исполины, и воплощенными в самих богах началами мирового устроения и порядка приводила к неизбежному выводу об итогах этой борьбы – трагической победе разрушительных элементов вечного хаоса над временным господством человеческих повелителей мира, богов (при этом единичные носители разрушения, чудовища и исполины, сами погибают, предварительно истребив богов).
Возвышаясь до понимания несовершенства родных богов, варварское сознание не отступило перед самым страшным выводом – боги осуждались им на смерть. Если они оказались виновными, действуя против правды и добра, – значит у них не было и права сохранять свое место в мире: «Придет день, когда несовершенные, запятнавшие себя виною боги умрут, когда их истребит грозная сила хаоса». Некогда и только временно восторжествовав над этими силами, боги внесли в мир порядок и устроение, но всесильная мировая судьба предуказала тот день и час, когда погибнут прежние победители, недостойные править миром: их место займет рок.
Подобно грекам, древние германцы также имели некоторое представление о некоей единой предвечной силе, властвующей над миром и богами, всемогущей и беспощадной: боги лишь хранят и владеют, правит же миром нечто иное. Это нечто и предустановило жребий богов и борьбу их с истребительными стихийными началами, предустановило ход и исход этой борьбы. Над богами и их противниками, над земным миром и всеми другими мирами стоит судьба. У нее нет имени, нет образа. Это безликая, непознаваемая мировая необходимость, непреложный закон вселенского бытия; для нее безразлично добро и зло, в ней заключено лишь неуклонное осуществление вечных предначертаний, никому неведомых и непостижимых земным разумом87. В мире совершается только то, чего требует вечная необходимость, этот безликий мировой закон. (Закон заключает в себе два вида должного: этически нейтральное с точки зрения теодицеи (поскольку Бог этому не воспрепятствовал) и этически правильное, оцениваемое с точки зрения моральной свободы. Ницшеанское «вечное возвращение» делало закон нейтральным и «техническим», а вагнеровское размышление о «гибели богов» было проникнуто скепсисом в отношении значимости «высшего» закона.)
И Юлиус Эвола, в свою очередь, упрекнул Вагнера за искажение исторических фактов, которые тот включил в свою мифологему. Но для Эволы пафос пробуждения неистовых стихийных сил, которые поэтизировались Вагнером, не являлся основным признаком той «темной» эпохи, эти силы скорее отражали простонародные предрассудки и чужеродные влияния. Сущность же древней традиции, которую чаще всего затрагивают исследователи, была связана с прозрачными и устойчивыми «олимпийскими» смыслами, такими как представления о высшем центре и основополагающем миропорядке, который вполне можно рассматривать как «метафизическую основу имперской идеи». По ту сторону мира становления трагической и стихийной действительности существует порядок, о котором знали еще люди классической античности (уже в императоре Августе древний мир видел и признавал вещую фигуру – показательная связь между его личностью, дельфийским культом света, апологической идеей гиперборейского происхождения и символической фигурой Ореста – как законодателя нового «мужского» права, противостоящего хтоническому миру «матерей» и стихийных сил)88.
Эту же роль играл и символизм Валгаллы и тема «света Севера», обеспечивающей стабильность миропорядка. (А. Тойнби считал одним из главных мотивов варварского мифа борьбу героев с чудовищем, похитившим у людей сокровище, что может представляться «проекцией на внешний мир психологической борьбы, происходившей в душе варвара»: эта борьба начинается, когда варвар из относительно спокойного мира, в котором он жил на границе империи, попадает в шаткий мир, открывшийся ему после прорыва этой границы. Главная слабость варварского этического кодекса состояла в том, что он носил сугубо личный, частный, а не общественный или институциональный характер: «Варвары абсолютно не способны создать устойчивые длительные социальные и политические институты»89). Именно такой эгоцентризм как мотивация и становится разрушительным началом для древнего Закона, закона богов и предков. На его месте рождается кодификация, прием, который расчленяет единый прежде божественный закон на институты и нормы, особые правовые «монады», и одновременно очерчивает правовое поле жесткими границами, сокращая пространство проявления воли и правопонимания. Кроме того, первые кодификации (свободы обычных норм) не могли не носить частного характера: государство было еще не в состоянии соединить их своей единой волей.
В Эдде асы, «божественные герои» обратились к «существам стихий» с просьбой построить для них крепость в земле Мингард: это – Асгард или Валгалла. В качестве платы за работу гиганты потребовали себе божественную женщину Фрейю, а кроме того, еще луну и солнце. Но асы не могли допустить узурпации высших сил существами низших стихий, нибелунгами, и тогда гиганты начали войну, которая и привела в итоге к «сумеркам богов» – кельтская традиция обозначает центр, куда удалились божественные завоеватели, «подземным и недоступным». Там они стали невидимыми обвинителями, влияющими на человеческие дела и судьбы. (Их первоначальное воинское неистовство позже «трансформировалось в упорядоченную и иерархизированную силу, тяготеющую к своего рода рыцарству» (Жорж Дюмезиль). Рождение рыцарства увидели и уже в древних обрядах инициации и посвящения, подвергшихся трансформации уже в новой, социальной среде, и в феномене берсерков, «воинстве мертвецов», у которых экстаз и способность превращаться в животных вели к божеству войны – к Одину или Вотану.)90
3. Приход «сверхчеловека»
Вотан – первый из асов и величайший из духов света – желал добыть для себя власть всего мира. Он предписывал законы великанам, покорял нибелунгов, подчинял своей власти все злотворные силы. Через знание он достигает власти, подчиняет мир справедливости и закону. Но сам он страстно хочет избавиться от вечного закона перемены и смерти, хочет непременно вечной власти и с помощью великанов воздвигает Валгаллу, господствующую над миром.
Кольцо, позволяющее господствовать над миром и богами, – проклятое господином подземного мира. Вотан ему уступает и тем самым совершает первую несправедливость. Для того, чтобы всеобщий порядок был восстановлен, Вотан должен был бы возвратить Золото Рейна, обращенное в кольцо, ундинам. Но вместо этого он поначалу пожелал это кольцо для себя, а затем, не имея возможности сберечь его, отдал его великанам, и этим он расплатился за Валгаллу, эту гарантию и видимый знак своей власти, проклятой платой. Царство его было плохо упрочено, поскольку было основано на несправедливости, и власть его ненадежна. Вотан расплачивался за свои мечты о власти, бессмертии и всеведении: знание поэтому делается для него только источником слабости, правда при этом позволяя ему предвидеть будущие опасности, туманные и грозные предсказания. Это состояние постоянной тревоги внушает ему Эрда, «мать первого страха», это некое туманное сознание той самой слепой необходимости, которая угрожает Вселенной.
Лишившись через свое знание (синоним власти) блаженства, Вотан в своей свободе оказывается стесненным теми самыми законами, которые он же и наложил на мир: если, благодаря договорам, обеспеченным рунами, вырезанными на древке копья, он властвует над миром, то и сам он, в свою очередь, не кто иной, как пленник этих договоров. Божественный Закон тем самым утрачивал свою сакральность. Поэтому теперь Вотан ищет союзников уже среди людей, которых он сам подчинял себе системой кабал и договоров. По его приказу валькирии готовят новое племя героев, готовых защитить Валгаллу. Вотан постиг вечный закон эволюции, правящий миром: все, что существует, рождается и умирает, – и он сам подчиняется этой всеобщей необходимости, но уже не со скорбью, а с радостной покорностью и мужественным принятием неизбежного. Свое наследство он завещает человеку, свободному и бесстрашному: знание всевидящей Эрды заканчивается там, где начинается свободная воля поднявшаяся до желания всеобщего порядка. Ему ясно, что необходимость, а не мудрость, управляет миром, и Вотан через свое свободное приятие собственной участи сливается воедино с этой необходимостью. Все, чему учит история человечества – желать неизбежного и добровольно выполнять его: здесь и начинаются «сумерки богов». (Ю. Эвола уточняет: здесь речь идет скорее о «затмении божественного»)91.
Смерть воина равноценна высокому, экстатическому по природе, мистическому опыту: в нем воин достигает состояния берсерка, сочетания смертоносной ярости с невозмутимостью, – подражая поведению хищников, в первую очередь волка. Но зародившееся животное начало губит божественную душу и подготавливает конец мира.
Гибель (или «судьба богов») наступает достаточно скоро после идиллического начала истории, когда боги начинают между собой бессмысленную войну, в ходе которой в Астарде и заводится похоть и алчность: Тор и Великий змей убивают друг друга, а волк Фенрир убивает самого Одина – все небесные огни тогда погаснут, и погруженную во мрак землю поглотит море. Фрейя, которая некогда научила Одина магическому искусству, тем самым внесла в Астард похоть, от которой асы так и не смогли оправиться92.
В трактовке Вагнера историческая власть династии нибелунгов, этого древнейшего рода франков, основывалась на понятии о наследственном праве, уходящем корнями в древние времена и объединившем королевские и жреческие полномочия. Эти короли были отмечены неким таинственным знаком и уже самим своим рождением были предназначены к верховному владычеству, в истории почти достигнутому ими при Карле Великом. Идея всемирной монархии, которую исторические нибелунги намеревались осуществить на земле, была заключена в мифе о нибелунгах и Зигфриде. (В письме графини Мольтке Вальтеру Штайну, всю жизнь посвятившему изучению тайны Грааля, говорилось: в XI веке было сознание, что духовные существа приходят и уходят. Но «обитатели» Европы стремились прочь от этих духовных существ. Они были уже тогда готовы к материальному. Современник папы римского говорил: «Духи отступят от Европы, но европейцы позднее будут еще по ним тосковать. Без духов делают европейцы свои машины и приспособления. В этом они будут велики. Но они воспитают в своем собственном лоне людей Запада, которые доведут ариманскую культуру до ее высочайшей вершины и сами займут их место». Высшие духи хотят тягостного решения, чтобы указать Ариману верное направление в душевной жизни, которая «от франков восстанет на Востоке». Развитие западного мистического течения и было представлено Персифалем и его путем познания: замок Грааля несомненно находится на Западе.)93
«Мифические нибелунги – духи ночи и смерти, жители недр земли». Когда Зигфрид, это «божественное солнце», «герой Дня», убивает дракона – символ бесформенной мрачной Ночи, – он тем самым овладевает и кладом нибелунгов, и вступает во владение всеми богатствами земли, и достигает неограниченной власти. Для нибелунгов закон заключался в господстве силы, а идея могущества была лишена какого-либо этического содержания. Вечное честолюбие потомства Зигфрида, упорная мечта нибелунгов (или франков) «потомков бога», это обладание кладом, завоевание верховной власти и гегемония среди народов Европы (так, вступление Карла Великого в Рим, его эпохальная встреча с папой означали метафизическую встречу франкской идеи с идеей романской, которая на первое место ставила именно духовное господство).
Однако после падения видимой и материальной власти Рима старая религиозная традиция, восстановленная почти что в своей первоначальной чистоте христианством, воплощается в папе, духовном главе вселенской церкви. Жрец и король, соединенные некогда в лице верховного главы арийцев, разъединившиеся по прошествии веков, теперь вновь соединились, заключив между собой конкордат, вечный союз.
Государь стал восприниматься как глава царства, царство – как его тело, по аналогии метафоры мистического «брака между епископом и его кафедрой» стали истолковывать новые отношения между государем и государством. Юридическая интерпретация переносила на государя и государство наиболее важные сакральные и корпоративные элементы, которые обычно использовались для объяснения отношений между Христом и Церковью: Христос – как глава мистического тела и как само это мистическое тело94.
До Карла Великого «клад нибелунгов» был понимаем и как некая чувственная реальность, и одновременно как идея: как реальность, ибо потомки Зигфрида стремились к реальному обладанию миром; как идея, поскольку они основывали свои претензии на происхождении, по которому они являлись законными наследниками древнего арийского короля – жреца.
После Карла империя все более и более стала восприниматься уже не как реальность, а только как идея, как духовное могущество, независимое от факта реального обладания: император теперь стремился одухотворить свою власть; папа же, желая укрепить свое владычество в духовной сфере, стремился к духовному авторитету присоединить еще и действительную, вполне материальную власть, – франкская и романская идеи стремились стать идентичными и поэтому их столкновение казалось неизбежным.
(Кельтские и германские боги тогда еще не выделились из природы и не отделились от людей: в религии варваров многое сохранилось от тех пантеистических мотивов, которых явно недоставало послеримскому западному обществу. Христианство не стало отрицать относительной истины языческой веры и подлинной его сущности: оно лишь крестило язычество95, и социальная стихия молодых народов начала создавать новые формы: класс воинов, представлявший одновременно и земельную знать, организовался на договорных клятвенных началах в особое сословие.)
«В мире сражений и поединков, каким было христианское Средневековье, общество оказывалось ареной борьбы единства и многообразия, мыслившейся как поединок добра и зла. Ибо очень долго тоталитарная по духу система христианского Средневековья отождествляла добро с единством, а зло – с многообразием».
Миф о нибелунгах в XIX веке обретает новое звучание. Эпоха германского исторического доминирования в средневековой Европе описывается историками в тонах идеализированной утопии. Но христианизация языческого мира, как оказалось, только усилила его мистическую политизацию, и легендарная литература, в основе своей восходящая к народной литературе и старой церкви, стала романтизированной и «героической поэзией церкви». «Геройство» христианизированной литературы оказалось в противоречии с тем, что под этим словом понимала древнегерманская мифология: уже не наслаждение благородной силой, но добродетельное отречение от земных радостей и умерщвление чувственных ощущений становится характерными для религиозной этической поэзии. «Отрекающийся от мира легендарный героизм, освещенный падающими с того света лучами божественного чуда, преображался как бы в прозрачные образы»96. Аскетизм и чудо действовали заодно: в аскетизме мир и его устройство (следовательно, и государство, и право) отрицаются со стороны людей, в чуде же – со стороны Бога, и оба отрицания составляют основу святости: на границе чувственного и сверхчувственного миров телесные формы земной жизни превращались в свободные от внешней оболочки существа духовного мира.
Легенда не желала принимать во внимание исторические факты, если они противоречили ее религиозному духу. С помощью сказочного вымысла легенда обращала исторические события в «рамки для своих идеальных фигур»: господствовал тип и исчезали индивидуальные особенности. Чудесное знамение и божественное просветление занимают место психологического развития характеров, а трансцендентный дух средневековой религиозности больше нуждается в типических образцах христианского совершенства, чем в портретах, сходных с действительностью97. (Могучие фигуры древнегерманских героев странным образом выделялись на фоне эпохи, проникнутой аскетизмом и иерархией. Так, в сказании о нибелунгах главная идея – месть Кримхильды – находится в явном противоречии с христианской заповедью. Да и посещающая церковь Брунгильда так и остается первобытной валькирией.)
Роковая необходимость, свойственная древнему закону, в процессе христианизации встречается со справедливостью, неразрывно связанной со свободой воли. Закон неизбежно подвергается критике разума, и даже аффективная и романтическая героика оценивается с позиции разумности и справедливости, и критерий для этой оценки человек уже ищет не вовне, а внутри самого себя.
Идеальная и реальная империя Карла Великого спиритуализируется (вместе с фигурой Барбароссы), а «клад нибелунгов» превращается в чашу Грааля; мечта Барбароссы как бы выражала настроение всего христианства: ведь оно мечтало обрести, кроме папского Рима, еще и истинную землю спасения, Иерусалим, гроб Господень – и дальше, на таинственном Востоке, – легендарную колыбель древней расы. «Легенда о Нибелунгах, с одной стороны, спиритуализируется, становясь легендой о Граале, с другой – она материализуется в теории собственности» (А. Лиштанберже): золото нибелунгов уже первоначально представлялось как роковая сила, как злотворное и страшное чудовище, вроде Левиафана, которое, выйдя из недр мрака, снимает оковы со всех пагубных страстей человека… и снова вступает в царство ночи».
Эту древнюю трагическую концепцию, затемненную и искаженную северными преданиями, Вагнер дополняет теперь уже божественной трагедией. Он рассказывает о похищении золота Рейна Альберихом, который силою кольца порабощает нибелунгов. Далее он отмечает первую несправедливость богов, делающую их власть нелегитимной: вместо того, чтобы освободить нибелунгов, боги расплатились кладом и кольцом с великанами, построившими для них Валгаллу, и тем самым продлили несправедливое и тяжелое рабство нибелунгов. Он говорит о попытках богов загладить разрушающую их власть несправедливость, об их боязни увидеть Альбериха вновь обладателем кольца, достигающим всемогущества, об искуплении Вселенной человеком, который упрочит царство богов, вернув кольцо дочерям Рейна. В Зигфриде воплощается такой сверхчеловек, не знающий никаких законов и договоров, который берет на себя вину богов и заглаживает допущенную ими несправедливость98. Поэтому, получив всю пророческую мудрость Эрды, Вотан и заключает новые договоры между людьми, предписывает им законы, ограничивающие их свободу. Но сам он еще преисполнен силы, не терпящей ограничений, которая стремится к неизведанному; однако свои надежды он все же возлагает теперь на людей с тем, чтобы с их помощью победить силы мрака. Сверхчеловек приходит на смену богам. Теперь он сам желает диктовать свои законы, принимая за них свою собственную волю.
4. «Раненый король»: грех, вина и искупление
Из мифологического мышления возникали вполне реальные процедуры, опирающиеся на обряд и символ, предельно формализованные, но обращенные исключительно на процессуальное право. При этом материальное право оставалось достаточно пластичным и неформальным: права и обязанности не привязывались к букве. Доминировавшие в мышлении мифы не проводили резкой границы между магией и логикой или между судьбой и нормами уголовного права99.
Но отклонение от обычая или нормы позволяло задействовать в процессе познания символическую логику, которую называют «стихийной» и смысл которой состоит в том, что действующие внутри нее закономерности и приемы нарушаются, выводя познание на следующий, более высокий уровень. Здесь уже речь идет о приемах распределения, расположения, объединения или противопоставления различных элементов внутри целого: «Наиболее часто в рыцарском романе встречается прием отклонения: в перечне или в группе есть персонаж… или предмет, который во всем подобен остальным, за исключением одной маленькой детали – именно эта деталь и выделяет его и наделяет его значением» (пример с «Красным рыцарем» у Кретьена де Труа)100.
Королевский статус нуждался не только в лояльности со стороны божества, но и в легитимации со стороны подданных. Король действует по воле Бога и по божественному праву, но принимает решения в соответствии с законами, которые он сам же устанавливает. Его ошибки чреваты для всего королевства, и физическая болезнь короля – следствие его неверных решений, но бедствия его королевства – уже результат божьего наказания: «два тела» короля соотносятся с двумя сферами властвования. Так, его сакральное тело неистребимо и вечно присутствует в границах государства, это – дух государственности; физическое же – бренно, преходяще и смертно, оно – лишь символ духовного тела.
Уже Фрэнсис Бэкон значительно позже сделает соответствующее обобщение, уточнив: «В короле присутствуют не только одно природное тело и не только одно политическое тело, но тела природное и политическое вместе: корпоративное тело в теле природном и природное тело в теле корпоративном».
Государь, подчинивший себя своему закону, обладал властью, очерченной этим законом. Посредством же своих служителей он, однако, обладал «потенциальной вездесущностью», даже если и не мог пребывать повсюду в своем индивидуальном теле. Государь уже не был «проявлением Христа, вечного царя», он получал «свою долю в бессмертии в качестве ипостаси бессмертной идеи», где справедливость становилась образцовым божеством, а государь превращался и в воплощение этого божества, и в его верховного жреца101.
В цикле романов о Граале «король-рыбак» сосредотачивает на себе еще и вину, которая порождена действиями и помыслами других. Это – коллективная вина и первородный грех одновременно. Здесь и вина, и вменение синонимичны и трансперсональны: последствия виновности распространяются на все окружение главного персонажа и даже на тех, кто лишь случайно с ним соприкасается. Вопрос, к нему обращенный (у Персифаля), может снять с него бремя виновности, но не сможет открыть ее причин. Да и вообще, причинно-следственные связи здесь нарушены полностью, – необязательно виновность проистекает из преступления, а наказание (точнее, кара) непременно следует за проступком: средневековое правовое мышление обезличено (подобно анонимности авторства иконописцев). Индивид как бы растворен в коллективе и космосе.
В такой ситуации формализм должен стать превалирующим, формы находятся в состоянии готовности принять в себя любое содержание (подобно платоновским идеям), а пришедшая им на помощь схоластика обеспечивает их логизм и четкость. Врожденное чувство трансцендентной сущности вещей приводит к тому, что всякое представление очерчивается незыблемыми границами, оставаясь изолированным в своей форме, и эта форма явно начинает господствовать: здесь «правовое чувство непоколебимо, словно стена, оно ни на мгновение не испытывает сомнения, и “преступника судит его преступление…” При вынесении судебного решения формальному составу преступления… придают основное значение». (В древнем праве германцев этот формализм еще был настолько силен, что для вынесения приговора не имело значения наличие или отсутствие преступного умысла. Преступление как факт уже само по себе влекло наказание, тогда как покушение на преступление или незаконченное преступление могли еще остаться безнаказанными: формальный характер искупления и отмщения в акте кровной мести также был направлен прежде всего на искоренение несправедливости путем символического наказания или покаяния.)102
Неотвратимость наказания делала второстепенным факт его применения здесь, на земле. Это был только знак еще более значимого воздаяния и поражения, которые в будущей жизни обрушатся на преступника. Грех казался значительно страшнее проступка, вменение и возмездие представлялись неразрывными, тогда как наказание не всегда поспевало за преступлением. Множественность и неопределенность уголовных наказаний свидетельствовали не столько о формализме системы наказаний, сколько намекали на грядущую высшую кару. Членовредительные наказания и смертная казнь были обращены к телу преступника, но не к его душе. Систематизация преступлений (и наказаний) в законе явно соотносилась с системой грехов и кар, которые преступнику еще только предстоит испытать в будущем. Здесь право приближалось более к табу, чем к этике, с той лишь разницей, что табу грозило неопределенным злом с неопределенной стороны. Если же само это неопределенное наказание не выполнилось, тогда оно возвещалось уже со стороны сообщества, и здесь уже намечался переход от табу к закону103.
Покаяние, восстановление чести и примирение были стадиями, через которые должно было пройти искупление преступления или греха. Альтернативами являлись кровная месть, объявление вне закона или отлучение. Но новые концепции наказания, основанные на доктрине искупления, отказывались от древних представлений о примирении как альтернативе кровной мести и восстановлении в правах. Ансельм Кентерберийский предлагал в качестве основания концепцию справедливости, которая требовала, чтобы за каждый грех и каждое преступление было заплачено временным страданием, наказанием, адекватным греховному проступку, платой за нарушение права. Уже в XII веке было проведено четкое процессуальное различие между грехом и преступлением104.