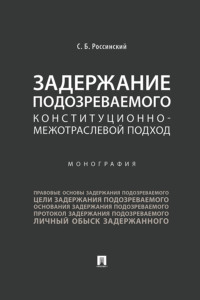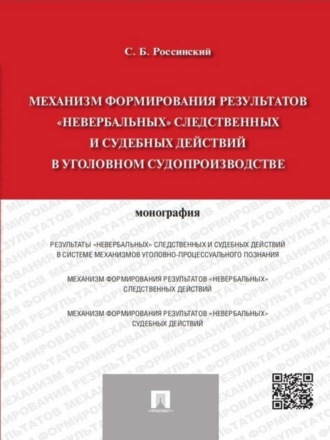
Полная версия
Механизм формирования результатов «невербальных» следственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве. Монография
В этой связи сразу возникает закономерный вопрос: какие сведения фиксируются в протоколах следственных действий и судебного заседания? Ответ на него весьма очевиден. В протоколах фиксируются сведения о ходе и, самое главное, о результатах, проведенных дознавателем, следователем или проведенных в судебном заседании следственных или судебных действий. Как справедливо отмечают О. В. Волынская и Д. В. Шаров, в протоколах осмотра, обыска, выемки и др. описывается процесс и результат непосредственного изучения предметов и явлений материального мира, фиксируются сведения, имеющие значение для дела, наблюдаемые непосредственно (например, вещи, обнаруженные при осмотре места происшествия, при обыске у обвиняемого)162. Примерно на это же указывают и многие другие исследователи, мнения которых о сущности протоколов следственных действий и судебного заседания приводились выше.
С такими суждениями трудно не согласиться. Однако в них все же есть одно достаточно уязвимое место. Ранее мы уже обращали внимание на то, что не только протоколы, подпадающие под смысл ст. 83 УПК РФ, но и другие виды доказательств также формируются в результате проведения следственных или иных процессуальных действий. На это прямо указывает ч. 1 ст. 86 УПК РФ. Например, показания представляют собой результаты таких следственных действий, как, например, допрос или очная ставка. Экспертное заключение формируется в результате проведения судебной экспертизы и т. п. Большинство авторов, касавшихся в своих работах данной проблематики до 2001 г., индивидуализировали данный вид доказательств наиболее простым способом – через прямо установленный ст. 87 УПК РСФСР перечень процессуальных действий, обуславливающих появление соответствующих протоколов. В него включали осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, предъявление для опознания, следственный эксперимент, а также задержание подозреваемого163.
Вместе с тем действующий УПК РФ более такого перечня не содержит. Поэтому некоторые современные ученые, работающие в данном направлении, стали занимать достаточно осторожную позицию. Они будто бы уклоняются от перечисления всех следственных и судебных действий, подпадающих под контекст ст. 83 УПК РФ. Так, Ю. К. Орлов пишет, что в протоколах следственных действий фиксируются ход и результаты таких следственных действий, как осмотр, освидетельствование, обыск, предъявление для опознания, следственный эксперимент и др164. В ряде современных источников, в том числе в отдельных учебниках по уголовному процессу, вопрос об этом перечне не поднимается вовсе165. Другие авторы, говоря о перечне следственных и судебных действий в контексте ст. 83 УПК РФ, пытаются сохранить преемственность по отношению к уже упомянутой ст. 87 УПК РСФСР и перечисляют их, как это было сделано там166. Но такая позиция нам представляется несостоятельной и даже ошибочной. Ведь предусмотренная действующим уголовно-процессуальным законом система следственных и судебных действий существенно отличается от существовавшей ранее. В УПК РФ появились принципиально новые способы формирования доказательств: проверка показаний на месте (ст. 194), контроль и запись переговоров (ст. 186), получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (ст. 186.1). Кроме того, нынешний процессуальный закон наконец-то императивно прекратил многолетнюю научную дискуссию о природе задержания подозреваемого, совершенно справедливо отнеся его не к следственным действиям, а к мерам принуждения. Правда, некоторые современные ученые предпринимают попытки формирования обновленного перечня следственных и судебных действий в контексте ст. 83 УПК РФ. Например, по мнению О. В. Савенко, в него должны быть включены осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, личный обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами167. Причем, как уже отмечалось выше, этот перечень предлагается вновь закрепить на законодательном уровне.
В целом соглашаясь с данной позицией, тем не менее следует обратить внимание на то, что она имеет ряд недостатков. Во-первых, некоторые следственные или судебные действия имеют сложную, двойственную познавательную природу; они способны обуславливать формирование не одного, а двух различных видов доказательств. Наглядным примером здесь может служить предъявление для опознания, результаты которого специалисты традиционно относили и продолжают относить к сфере действия ст. 83 УПК РФ (ст. 87 УПК РСФСР). Однако по своей сути данное следственное (судебное) действие наряду с этим одновременно направлено и на получение специфических показаний, заключающихся в пояснении опознающим лицом обстоятельств, при которых он наблюдал опознаваемый объект, и признаков, по которым было проведено опознание. Кстати, этот факт прямо подтверждается обязанностью следователя (дознавателя) или председательствующего в судебном заседании перед опознанием предупредить опознающего свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний. В этой связи следует согласиться с Х. А. Сабировым, который совершенно справедливо пытается выделить протоколы предъявления для опознания и проверки показаний в обособленную группу, основанную на сочетании методов непосредственного наблюдения, сравнения и опроса168. Данная проблема представляется весьма актуальной и требующей самостоятельного исследования. Поэтому мы планируем вернуться к ее более подробному рассмотрению в последующем.
Во-вторых, рассмотрение сущности какой-либо научной или иной категории через перечень входящих в нее частных элементов, т. е. применение индуктивного пути, нам вообще представляется неконструктивным. Такой путь не носит системного характера. Поэтому он всегда опасен возможностью упущения одного или нескольких элементов. В частности, определение существа протоколов, предусмотренных ст. 83 УПК РФ, через их перечень, на наш взгляд, не позволит распознать имеющиеся пробелы в системе правового регулирования данных средств процессуального познания, т. е., возможно, выявить такие следственные или судебные действия, которые еще не предусмотрены действующим законодательством, но имеют практическую потребность. Индуктивный путь решения данной проблемы также опасен и обратной тенденцией, заключающейся в необоснованном расширении перечня следственных и судебных действий в контексте ст. 83 УПК РФ за счет включения в него мероприятий совершенно иной процессуальной природы. Подобную ошибку, например, допускает Р. В. Костенко, который, на наш взгляд, абсолютно необоснованно пытается включить в данный перечень действия, предусмотренные ст. 92, 143, 218 и др. УПК РФ169.
Таким образом, мы придерживается мнения о предпочтительности применения дедуктивного метода (от общего к частному) при рассмотрении сущности протоколов следственных действий и судебного заседания, который позволяет посредством формулирования некого общего видообразующего признака (системы признаков) четко определить доказательства, подпадающие под действие ст. 83 УПК РФ и отграничить их от других средств процессуального познания: показаний, экспертных заключений, вещественных доказательств и т. д. В этой связи необходимо обратить внимание на то, что в науке уголовного процесса уже предпринимались определенные шаги в данном направлении. Авторы коллективной монографии «Теория доказательств в советском уголовном процессе» в качестве критериев для выделения протоколов в отдельную группу доказательств предлагали следующие:
а) они должны содержать результаты непосредственного наблюдения явлений, материальной обстановки, следов;
б) протоколы фиксируют, помимо результатов, и саму деятельность лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда, условия и ход следственного (судебного) действия;
в) составление протокола носит процессуальный характер170.
Однако представляется, что подобный подход весьма уязвим. Так, во-первых, в современной судебной и особенно следственной практике встречаются случаи, когда непосредственного наблюдения за объектом познания дознаватель, следователь или суд не осуществляют, например при контроле и записи переговоров, при получении информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами. Во-вторых, на наш взгляд, сама деятельность дознавателя, следователя или суда фиксируется в протоколе следственного действия или судебного лишь в контексте получения определенного познавательного результата. В противном случае эти факты, даже если они и подлежат занесению в протокол, то к доказыванию не имеют никакого отношения и, следовательно, не должны рассматриваться как критерии формирования отдельного вида доказательств. Примером тому может послужить использование следователем в ходе обыска технического средства для вскрытия запертой двери, если владелец помещения отказывается открыть ее добровольно (ч. 6 ст. 182 УПК РФ). Безусловно, подобное обстоятельство подлежит отражению в соответствующем протоколе, но скорее не в целях процессуального познания, а как гарантия обеспечения прав и законных интересов определенного лица (в данном случае – владельца помещения). Однако оно не имеет никакого отношения к тем объектам, которые, возможно, и будут обнаружены за запертой дверью; если они действительно там, то факт их отыскания не должен быть поставлен в зависимость от способа проникновения в помещение. Если же поведение хозяина помещения, напротив, будет иметь значение для уголовного дела, то в этом случае оно, безусловно, должно быть расценено как определенный доказательственный результат. А протокол судебного заседание вообще имеет доказательственное значение лишь в части, посвященной исследованию обстоятельств уголовного дела171. Ну и наконец, в-третьих, процессуальный характер присущ любым протоколам любых следственных действий (судебного заседания), а не только тем, которые подпадают под смысл ст. 83 УПК РФ.
Достаточно интересная позиция относительно сущности протоколов следственных действий и судебного заседания высказывается В. А. Лазаревой. Она пишет, что эти следственные действия отличаются от допроса своей принципиальной неповторимостью, в силу чего составление протокола, в котором орган расследования фиксирует результаты своего личного наблюдения, является единственным средством, позволяющим сохранить эти результаты для суда172. Подобный подход действительно не лишен права на существование. Однако он применим не ко всем, а лишь к части рассматриваемых следственных или судебных действий. Ведь, например, осмотр приобщенного к уголовному делу документа или вещественного доказательства при необходимости может быть воспроизведен неоднократно.
Поэтому, полностью не отвергая изложенные мнения, высказанные по поводу протоколов следственных и судебных действий в контексте ст. 83 УПК РФ, мы будем расценивать их как частные варианты решения данной проблемы, вместе с тем не могущие претендовать на роль общего, сущностного признака. На наш взгляд, этот признак следует формулировать в контексте общей системы уголовно-процессуального познания. Ранее мы уже отмечали, что каждому доказательству как элементу этой системы отводится роль своеобразного информационного ресурса (с точки зрения информационной теории – сигнала), позволяющего дознавателю, следователю или суду получать в распоряжение отдельные сведения, отраженные от различных материальных или идеальных объектов. Поэтому сущность любого используемого в уголовном судопроизводстве доказательства надлежит искать именно в признаках данного информационного ресурса (в характере и свойствах поступающего сигнала), обусловленного способом передачи сведений и их восприятия дознавателем, следователем или судом. По смыслу ст. 83 УПК РФ в ее системном единстве с другими положениями процессуального права вполне очевидно, что, говоря о протоколах следственных действий и судебного заседания, законодатель понимает именно те информационные ресурсы (сигналы), которые обусловлены взаимодействием субъекта познания с материальными объектами: местом происшествия, иным помещением, сооружением или участником местности, телом человека, предметом, веществом и т. д. Такие фрагменты объективной реальности дознаватель, следователь или суд воспринимают, как правило, зрительно; в более редких случаях – посредством иных органов чувств. При этом представляется, что независимо от использованного сенсорного механизма в основе получения сведений обо всех подобных материальных объектах лежат именно закономерности наглядно-образного восприятия как одного из способов человеческого познания.
Визуальные или иные информационные сигналы о фрагментах объективной реальности, об элементах вещной обстановки, поступая в кору головного мозга дознавателя, следователя, судьи, присяжных заседателей, образуют определенный наглядно-образный перцепт. Впоследствии этот перцепт посредством зрительного (в исключительных случаях – иного) гнозиса трансформируется в соответствующие мысленные образы. И лишь затем на основании рационального мышления создается словесное (вербальное) описание сформированных мысленных образов, которое как раз и является содержанием предусмотренных ст. 83 УПК РФ протоколов следственных действий и судебного заседания.
Подобный способ уголовно-процессуального познания ранее мы условно назвали «невербальным», понимая под ним любые варианты установления обстоятельств уголовного дела, сопряженные с возникновением в сознании дознавателя, следователя, судьи (присяжных заседателей) мысленных образов материальных объектов, основанных на чувственном (наглядно образном) перцепте, и подразумевающие оперирование зрительными и любыми другими сведениями, не выраженными в вербальной (условно-сигнальной) форме. Представляется, что именно он лежит в основе формирования доказательств, подпадающих под диспозицию ст. 83 УПК РФ.
«Невербальный» способ уголовно-процессуального познания мы и предлагаем рассматривать в качестве сущностного признака протоколов следственных действий и судебного заседания как самостоятельного вида доказательств. Этот признак позволит сформулировать теоретическую дефиницию данного вида доказательств и отграничить его от иных средств познания обстоятельств уголовного дела. Любой подобный протокол составляется по результатам проведения соответствующего «невербального» следственного или судебного действия, основу которых составляют не методы расспроса (диалога), кои присущи, например, допросу или очной ставке, а принципиально другие способы получения доказательственной информации. Например, при осмотре или освидетельствовании это в первую очередь наблюдение. При обыске это наблюдение в совокупности с определенными ручными операциями (открыванием шкафов, ящиков, хранилищ, обнаружением тайников и пр.). При контроле и записи переговоров это запись и дальнейшее прослушивание звуковой информации, сформированной без вербального участия в разговоре дознавателя, следователя или судьи.
Таким образом, под предусмотренными ст. 83 УПК РФ протоколами следственных действий и судебного заседания следует понимать составленные дознавателем, следователем или судом уголовно-процессуальные акты, фиксирующие сведения о факте проведения, о ходе и результатах соответствующих следственных или судебных действий, основанных на использовании «невербального» способа познания. Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, сами по себе протоколы следственных действий и судебного заседания, представляя собой всего лишь объекты документального характера, не вписываются в общее понятие уголовно-процессуальных доказательств в контексте информационной теории. Они не являются формами информационных сигналов, поступающих от материальных фрагментов объективной реальности, от элементов вещной обстановки в сознание дознавателя, следователя, судьи или присяжных заседателей. Протоколы следственных действий и судебного заседания лишь фиксируют сведения о мысленных образах материальных объектов познания, сформированных в сознании их автора.
Для полноты исследования следует обратить внимание на то, что в некоторых ситуациях, связанных с последующим изучением протоколов субъектами процессуального познания не принимавшими участия в производстве соответствующих следственных или судебных действий, эти документы уже приобретают значение основных информационных источников, позволяющих установить определенные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Таковыми, например, являются случаи изучения ранее составленных протоколов следователем, которому дело было передано в производство. Подобная ситуация складывается и в связи с оглашением протоколов следственных действий в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ, и т. д. А протоколы судебных заседаний приобретают доказательственное значение для вышестоящих судебных инстанций173.
Однако мы полагаем, что указанные механизмы процессуального познания не являются какими-либо исключениями. Они не противоречат сущности протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств, основанных на наглядно-образном восприятии дознавателем, следователем или судом материально-фиксированных фрагментов объективной реальности. Несмотря на условно-знаковый, интеллектуальный язык протоколов, они сами по себе не содержат информации, непосредственно отраженной от первоначального объекта процессуального познания. Вполне очевидно, что автор протокола следственного действия или судебного заседания таковым объектом не являться. Здесь скорее уместно говорить о том, что для субъектов познания, знакомящихся на последующих этапах производства по уголовному делу с ранее составленными протоколами следственных действий и судебного заседания, такие доказательства имеют производный характер, т. е. связаны с получением значимой информации будто бы «из вторых рук». Это обстоятельство, безусловно, накладывает определенный отпечаток на адекватность содержащихся в них сведений и, следовательно, должно учитываться при их проверке и оценке. Однако к рассмотрению данной особенности протоколов следственных действий и судебного заседания мы планируем вернуться в последующем.
В контексте информационной теории и современных подходов законодателя к сущности уголовно-процессуальных доказательств средства познания, определенные в ст. 83 УПК РФ и в других корреспондирующих ей положениях закона, должны быть представлены как информационные сигналы о материальных фрагментах объективной реальности, воспринятые дознавателем, следователем или судом в ходе проведения «невербальных» следственных или судебных действий. При этом вполне очевидно, что каждый случай восприятия субъектом познания данного информационного сигнала следует расценивать как определенный результат соответствующего следственного или судебного действия, увеличивающий объем доказательственного материала в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Например, при производстве следственного осмотра таким результатом является восприятие факта нахождения какого-либо предмета в определенном месте. Для обыска – восприятие факта обнаружения искомого предмета, документа или ценности. Для следственного эксперимента – восприятие возможности совершения определенных действий и т. д. Кстати, о доказательственном значении не самих протоколов, а именно результатов следственных и судебных действий в контексте ст. 83 УПК РФ вскользь говорится в работах Н. С. Мановой174.
Таким образом, мы полагаем, что доказательства, предусмотренные ст. 83 УПК РФ, следует именовать не протоколами следственных действий и судебного заседания, а результатами «невербальных» следственных и судебных действий175. По нашему мнению, результаты «невербальных» следственных и судебных действий – это имеющие значение для уголовного дела сведения, полученные в предусмотренном законом порядке дознавателем, следователем или судом посредством наглядно-образного восприятия материальных фрагментов объективной реальности, элементов вещной обстановки и отраженные в соответствующем протоколе.
Разработанный нами новый подход к сущности доказательств, предусмотренных ст. 83 УПК, мог бы вполне обусловить формулирование ряда предложений по внесению изменений в п. 5 ч. 2 ст. 74 и ст. 83 УПК РФ и другие находящиеся с ними в системном единстве положения уголовно-процессуального закона. Вместе с тем в вопросах возможного реформирования законодательства мы стараемся занимать более осторожную позицию, не делать резких шагов.
Представляется, что в сложившейся ситуации наиболее разумным будет использование сформулированной нами концепции о результатах «невербальных» следственных и судебных действий на теоретическом уровне и постепенное ее внедрение в следственную и судебную практику посредством соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также системного изложения в учебной литературе и научно-практических комментариях к УПК РФ.
Глава 2
Механизм формирования результатов «невербальных» следственных действий
§ 2.1. Следственные действия как средства познания обстоятельств уголовного дела
Различные аспекты проведения следственных действий в уголовном судопроизводстве традиционно являлись и продолжают оставаться предметом бурных дискуссий. Причем вплоть до настоящего времени в науке даже не сложилось единого мнения относительно их понятия и сущности. В этой связи позиции ученых разнятся и по поводу перечня следственных действий, а также по целому ряду других связанных с ними вопросов. Указанные теоретические проблемы исподволь обуславливают множество пробелов и недочетов в нормативной регламентации как всего уголовного судопроизводства в целом, так и самих следственных действий в частности. Причем принятый в 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, устранив некоторые из них, одновременно привел к появлению многих других. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в настоящее время в следственной и судебной практике наблюдаются серьезные затруднения, связанные с производством следственных действий, а также с проверкой и оценкой их результатов. В этой связи представляется целесообразным продолжение научных исследований, направленных на изучение феномена следственных действий в уголовном судопроизводстве в целях возможной оптимизации уголовно-процессуального законодательства и соответствующей практической деятельности. Причем наиболее важным вопросом, подлежащим первостепенному разрешению, является вопрос об уголовно-процессуальной и гносеологической сущности следственных действий в контексте их познавательной направленности.
Итак, что же из себя представляют следственные действия в уголовном судопроизводстве РФ? Какова их сущность? Отвечая на данный вопрос, сразу следует обратить внимание на отсутствие законодательно закрепленной дефиниции следственных действий. И это несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по нашим подсчетам, употребляет термин «следственное действие» в том или ином контексте 178 раз! Кроме того, этот же термин используется в ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ176, в ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ177, в ст. 69 Кодекса торгового мореплавания РФ178, в ст. 64 Федерального закона «О связи»179, в ст. 12 Федерального закона «О полиции»180, в ст. 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности»181 и еще в целом ряде корреспондирующих УПК РФ законов и иных нормативно-правовых актов. В этой связи мы полностью согласны с З. В. Макаровой, которая пишет, что отсутствие данного понятия в УПК РФ трудно объяснить182. И тем не менее, подобного легального определения следственных действий нет ни в ст. 5 УПК РФ, ни в других правовых нормах. Хотя в целом действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ просто изобилует другими – кстати, далеко не всегда необходимыми – дефинициями.
Более того, сущность следственных действий не может быть определена и из самого смысла закона. Сопоставление различных положений УПК РФ в определенном смысле исключает возможность единообразного понимания следственных действий в системе уголовно-процессуального регулирования. Применительно к разным ситуациям под ними фактически предполагаются различные правовые категории. Так, в контексте ч. 1 ст. 86 УПК РФ можно предположить, что следственные действия имеют сугубо познавательный характер и направлены на собирание доказательств. Вместе с тем ч. 2 ст. 164 и ч. 1 ст. 165 УПК РФ, устанавливая судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий, включают в их перечень наложение ареста на имущество, которое одновременно является мерой уголовно-процессуального принуждения. А ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ к следственным действиям и вовсе относит порядок реализации и уничтожения вещественных доказательств183. В ч. 1–2 ст. 215 УПК РФ под окончанием следственных действий законодатель, очевидно, имеет в виду завершение любых действий следователя, составляющих содержание предварительного расследования и т. д. Кстати, на наш взгляд, примерно такой же смысл вкладывается и в определение неотложных следственных действий, под которыми, видимо, следует понимать всю осуществляемую органом дознания процессуальную деятельность до момента передачи уголовного дела следователю (п. 19 ст. 5, ч. 1–3 ст. 157 УПК РФ).