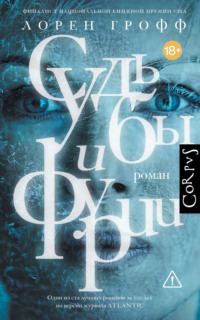Полная версия
Аркадия
Тут как в церкви, вздыхает Мария и отворачивается, чтобы втайне четырежды коснуться себя, от головы к животу, от плеча к плечу, и Крох, прячущийся за деревом, повторяет это движение за ней снова и снова. Ему нравится торжественность жеста. Он не хочет, чтобы другие это заметили. Суеверие, фыркает Ханна, когда кто-то упоминает о Боге. Хотя те, кто живет здесь, выполняют свои ритуалы: Мухаммед становится коленями на коврик посреди дня, устраиваются еврейские праздники-седеры и рождественские елки, – к религии относятся примерно так же, как к гигиене: личные потребности лучше придерживать при себе, чтобы не задевать остальных.
Микеле сверлит по отверстию в каждом толстом стволе, Иден вкручивает в отверстие трубочку-носик. Деревья кровят чистым соком. Пинг-пинг-пинг, капает он в ведра подобно тому, как стучит в крышу Хлебовозки теплый дождь. Но ощущается этот стук по-другому; он отдает сладостью.
* * *В Крохе стронулась с места речь. Каждый день – маленький взрыв понимания. Он помнит, как прошлым августом лежал в теплой мелкой воде на отмели Пруда, а под водой его покусывал кто-то невидимый. Теперь, когда у него есть книга Гримм, это как если бы его глаза оказались под водой, и он наконец смог разглядеть там крошечных рыбок. Речь распадается на слова, каждая фраза имеет свой порядок: “Праститьмня” становится “Простите меня”, а “Власьнарду” – “Власть народу”, все слова становятся внятными как по отдельности, так и вместе.
В его сознании появились ящички, по которым можно людей рассортировать. Хэнди – Лягушачий король. Титус – одинокий людоед в Привратной сторожке, отгоняет Свиней и зевак. Высокий Эйб с его инструментами, топором, бородой – лесоруб. Иден, с ее ярко-медными волосами и бледной кожей, поедающая сочную зелень, выращенную на южном окне Курятника для Беременных, – королева. Он надеется, что она не та добрая мать, которая должна умереть, чтобы освободить место злой мачехе. Надеется, что она не та плохая мать, что продаст своего ребенка за травы. Вандер-Билл, с его подвижным лицом и обезьяньими ухватками, был дурак. С Астрид трудно: волосы у нее блестят, как у принцессы, но лицо старое, а зубы ужасные, как у ведьмы; она принимает роды и раздает людям лекарства, как ведьма, но она замужем за Лягушачьим королем, и, значит, королева. Ладно, он разберется с ней позже.
Проще всего с Ханной. Всегда в постели, и когда день разгорается, и когда догорает, она – спящая принцесса, зачарованная.
Крох убирает книгу на место и подкладывает в печь еще полено. Если этого не сделать, у него потечет из носа, и Эйб, вернувшись домой после ужасно долгого дня на холодной крыше, нахмурится на Ханну, которая не поднимется с тюфяка. Она сомкнет веки, позволяя осуждающему молчанию скатиться с нее. Крох закрывает заслонку, съедает кусочек сушеного ананаса и долго смотрит на бугорок Ханны.
Сможет ли она проснуться сама? День клонится к сумеркам. В лесу поднимается ветер, и Крох слышит его темный, устремленный на них порыв.
Наконец Крох старательно моет руки и трижды чистит зубы пищевой содой. Опускается на колени позади материной подушки. Обхватывает ладонями ее щеки. Наклоняется над ней медленно-медленно и касается своим ртом ее рта, целуя ее со всем, что у него внутри, крепко прижимает свои губы к ее губам, так что чувствует под ними твердость ее зубов, ловит несвежий привкус ее дыхания.
Она не проснулась, когда он поднял голову. Он печально снимает руки с ее щек. Это то, чего он боялся. Крох – не тот. Он не ее принц.
* * *Женщины кипятят кленовый сок в водонагревателе, который Тарзан переделал в огромную пароварку, и по всей Аркадии пахнет сладко и чуть-чуть горько от подгоревшего по краям. Высовывая язык, Крох почти чувствует на нем сахар. Однажды утром, когда Лисонька по свежим сугробам ведет Детское стадо к Сахарнице, они видят, что Микеле и Сьюзи, очумелые от того, что варили сахар всю ночь напролет, разрисовывают мягкий снег струйками сиропа. Сироп, остывая, тонет в снегу, и когда они выуживают его, видно, что он затвердел и превратился в ириску.
Только Астрид меня не выдавайте, просит Сьюзи, разламывая сиропную сосульку на кусочки, которые раздает детям. Тот, что достался Кроху, приторный до того, что Кроха подташнивает, но, чтобы никого не обидеть, он все равно проглатывает его и притворяется, что хочет еще.
* * *Одежда Эйба воняет потом и опилками; мужчины закончили крышу. Завтра в суставах рук Эйба не будет нетающего льда, и он не будет вздрагивать, случайно задев их во сне. Завтра Эйб начнет оборудовать ванные комнаты и проводить водопровод в Едальню, и, значит, рассосется куча заготовленных медных труб, которая высится в Гараже.
Когда мы будем жить в Аркадия-доме, со страстным мечтанием на лицах то и дело говорят теперь все. Вечно эта мечта, когда же. Все станет лучше, нам будет теплее, люди перестанут ссориться, мы сможем больше помогать миру, откроем издательскую компанию, ни у кого не будет недостатка в витамине D, малыши пойдут в школу, акушерки всегда под рукой, медведи перестанут выходить из леса, рыться в мусорных ведрах и разбрасывать грязные подгузники и женские прокладки по всему Двору, и уборных не будет.
Маффин, которая когда-то жила со своими мамашами в квартире в Олбани, пытается объяснить другим детям, что такое туалет: поворачиваешь ручку, говорит она, и вода хлещет изнутри и поглощает твои какашки.
Хелле заливается слезами. Это же чудище, рыдает она. Поглощает! Значит, ест какашки!
Остальные, вздохнув, отступают в сторонку, как обычно, когда Хелле заводит свои концерты. Но Крох подходит и прижимает ее к себе, эту всхлипывающую жесткую девочку, пухлую, но сплошные локти. Сначала она отпихивается, но потом, когда он отпускает ее, льнет сама. Она крупнее его, хотя порой ему кажется, что она младше младших. Она странная. Пахнет ванильным стручком. Кроху всегда за нее тревожно.
Вот еще, и никакое не чудище, с презрением говорит Маффин. Это та же уборная. Только там не воняет, не холодно и нет пауков, Ассенизаторам не нужно откачивать выгребную яму и не нужно разбрасывать щелок. Просто повернешь ручку, и все смывается.
Куда смывается, интересуется Лейф.
Не знаю, говорит Маффин.
Они смотрят друг на друга, раздумывая. Наконец одиннадцатилетний Эрик говорит: Наверное, в океан. Да, соглашаются все, где-то вдали должен быть океан, который Крох представляет себе как Пруд в ветреный день, на дальней его стороне ждут люди в чудных нарядах: женщины в кимоно и башмаках на деревянной подошве, мужчины в шляпах из рисовой соломки, в ярких рубашках-дашики, как у Мухаммеда, – и маленькие флотилии дерьма плывут к ним навстречу с парусами из подтирок и прочим.
* * *Пока они спали, облако сбросило на них снег. Эрзац-Аркадия превратилась в чистую красивую деревню, всю белую, с дымящими игривым дымком трубами, похожую на картинку из старой книжки Ханны про русских крестьян. Ханна сегодня опять не встала. Все ее тело в пленке из масел. Она бормочет что-то, хватает его и бережно затаскивает под одеяло, в свое тепло. Если лежать очень тихо, дышать в лад и уснуть вместе, то можно подсмотреть кое-что из ее снов: серую улицу, на которой Крох не бывал, дерево с медной корой, фонтан, окруженный окутанными сумерками дубами, огромную черную птицу с клювом, треснутым так, что виден красный язык. Еще глубже, и он оказывается в чреве шкафа, и что-то мягкое задевает его висок, а снаружи раздаются громкие голоса. Там, снаружи, обеденный стол со множеством разложенных в ряд вилок и ложек, и маленькая серебряная миска, в которой полощут белую руку. Это возврат к чему-то личному, скользкому, оно опрокидывается и проливается. Проснувшись, он весь мокрый от пота, но дрожит, как в ознобе.
Зрелое, ослепительно яркое утро. Его друзья распускают на пряжу те свитера, что никто не носит, сматывают в клубки, и в Розовом Дударе пахнет потом и овсянкой. Когда Детское стадо, выйдя на, как говорит Лисонька, Послеобеденный променад, идет мимо Дармового магазина, Крох видит там на крыльце Капитана Америку. На саронге Кайфуна развеваются на ветру звезды. Он манит Кроха костлявым пальцем. В ухе моем постелила она кровать. И уснула она во мне, и стала во мне спать. И сон ее – это все, что лежит окрест… – бормочет он, обдавая Кроха своим кислым дыханием. Рильке[15]. Мой перевод, конечно же, говорит он. Крох не понимает. Детское стадо миновало уже магазин, и Крох убегает, чтобы его догнать. Снова в безопасности, он оглядывается и видит, что старый Кайфун пристально на него смотрит. Слова Капитана до ночи толпятся у него в голове, как в тесной комнатке, наполненной малышней.
* * *Мать Джинси, Кэролайн, ушла. Оставила свои вещи и убежала. И хотя Джинси плачет, а отец ее, Уэллс, фыркает, что не будет заявлять о пропаже, и отдает одежду Кэролайн в Дармовой магазин, Крох знает, как это было.
Этим утром, когда на траву лег оловянного цвета иней, он вышел пописать и увидел на крыше того автобуса, где живет семья Джинси, огромную белую птицу, освещенную предрассветным светом. Он видел, как она расправила крылья и один раз вокруг себя обернулась. Мать Джинси взмахнула крыльями, поднялась в воздух и улетела.
Джинси приходит к Кроху, поспать с ним в его спальном мешке, потискать его, пока ей не станет лучше. Он покоряется и все от нее терпит.
* * *Ночью: Милая! Эй, эй, милая, проснись.
Ох… Что?
Я беспокоюсь о тебе. Реджина сказала, последние дни ты не бываешь в Пекарне. И Доротка говорит, что в Аркадия-дом с женщинами ты тоже не ходишь.
Я просто устала. Ты же знаешь, как зима всегда меня угнетает.
Да, да. Но, похоже, это как-то хуже обычного. Случаются дни, когда ты не встаешь с постели?
Ханна не говорит ничего.
Я все понимаю. Я знаю, ты расстроена, из-за отца и всего прочего. Но что я хочу сказать. Понимаешь, я работаю изо всех сил. Уже март, на сантехнику есть еще неделя, а потом мы начнем с остальным, и мы уже вышли из графика, отстаем, а Хэнди в последнем письме пишет, что они хотят пропустить Орегон, чтобы вернуться сюда за неделю до того, как надо начинать пахоту. В общем, нам нужны все наличные силы, чтобы закончить все до того, как они приедут.
Ничего. Крох слышит только, как бьется в ушах его собственное сердце.
Милая? Не хочешь поговорить?
Лишь деревья шумят за окном.
Ну, ладно. Я не тороплю. Отлежись с недельку или сколько там надо, отоспись. Но мне бы хотелось, чтобы на будущей неделе ты встала в строй. Ладно?
Ровное дыхание матери.
* * *Чрезвычайная ситуация. В Душевой испортился Водонагреватель. Эйб берет Кроха с собой. Когда они спускаются к низкой постройке у Пруда, горячей воды уже совсем нет, и те несчастные, кому выпало мыться в четверг, мерзнут с мыльной пеной на волосах.
Эйбу нужно осмотреть крепеж под цистерной, так что Титус, Иеро и Тарзан помогают ее сдвинуть. Кто-то ахает, кто-то кричит: там, где она стояла, – целый клубок змей, впавших в спячку гремучих змей.
Реакция у Эйба быстрая, тяжелыми каблуками своих ботинок он топчет их, пока не брызнула кровь, ее много, и повсюду куски змей. Крох хочет наклониться и потрогать одну из погремушек, которая торчит над кровавым месивом, нежная, как гриб. Но Эйб подхватывает его и швыряет Титусу. Кто-то взвизгивает от ужаса, но Титус уже унес Кроха в ночь, гигантские шаги его длинных ног быстро стелются по земле. Ханна не просыпается, когда Крох забирается к ней в постель. Во сне ветер, продувающий лес, становится дыханием Ханны, становится тлеющими угольками, падающими в печи, становится отдаленным ревом.
* * *Лисонька обряжает детей в анораки и ботинки и ведет их к Пруду, который запоздало, но наконец-то крепко замерз. Раскачивая на осях Хлебовозку, они дожидаются Кроха, пока тот нехотя не выходит. Ему больно оставлять Ханну одну. Однако на свежем холодном воздухе он чувствует себя так, словно его начисто вымыли. Все утро они раскатывают по льду, скользя по нему подошвами башмаков. Они визжат. Возбуждение бьется у них в горле. Они выстраиваются хлыстом. Кто-то из старших детей, Лейф, или Эрик, или Маффин, или Молли, или Фиона, стержнем стоит посередке, а маленькие – на концах. Все кружат вокруг этого стержня. Крох, один из самых маленьких, даже меньше, чем Пух, которой всего три года, и она девочка, отрывается и летит по льду, снова и снова по льду, на ногах, а потом на коленях, и врезается в мягкие сугробы, лежащие по краям Пруда.
Изредка выглядывает солнце, и тогда лед светится зеленым. Деревья вокруг Пруда сверкают сосульками, которые на ветру постукивают одна о другую и, падая, звякают похоже на колокольчик.
Хелле лепит вокруг Пруда толстых снежных ангелов, которые держатся за руки, как куклы на бумажных гирляндах. На это у нее уходят часы. Джинси и Маффин вращаются, взявшись за руки, пока не закружится голова. Лейф находит большую рыбу, замерзшую, уткнувшись носом к поверхности, и тихо с ней разговаривает. Малыши, которые уже ходят, Фелипе, Али, Сай и Франклин, возят варежками по снегу, ковыляют и падают на ходу. Мальчики сбивают друг друга с ног. Астрид и беременные подростки, Смак-Салли и Фланнери, приносят для малышни поджаренные бутерброды с соевым сыром и термосы с ромашковым чаем и самых маленьких уводят домой. Дети постарше, подкрепившись, носятся еще с час, а потом и они, один за другим, валятся с ног.
Сквозь пропитанные снегом одежки Крох чувствует холод и твердость льда. Чувствует, что его тело вычищено зимой и тяжелым, добрым трудом игры. Когда он входит в Хлебовозку, его мать сидит за столом с Эйбом.
У Эйба в красной окантовке глаза. Он целует Кроха в макушку, прежде чем снять с него куртку, зимние штаны, шапку и перчатки. Ты уж прости за то, что случилось прошлой ночью, малыш, говорит он. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. У меня сработал инстинкт, вот и все. Я никогда, никогда не собирался никого убивать, даже змей. Ты знаешь, что убивать неправильно. Это ведь портит Карму.
Крох гладит отца по лицу, прощая его. Он робеет рядом с матерью, осматривает воздух вокруг ее головы. Привет, малыш, говорит она и сажает его к себе на колени. Он шипит от боли сквозь зубы, и тогда она, спустив его на пол, снимает с него джинсы. О боже, говорит она. О боже мой, милый, что это с твоими ногами?
Поначалу он их даже не узнает, такие они сизые и лиловые от синяков. И коленки ободраны до крови. Он пожимает плечами, и мать нежно целует каждую из коленок, а Эйб встает и торопится назад в Аркадия-дом так, как будто за ним погоня.
Так лучше, Крох, да? – спрашивает Ханна, втирая ему в раны лечебную мазь.
У Кроха отмерз язык. Попытавшись и не сумев хоть что-то сказать, он понимает, что уже некоторое время совсем ничего не говорил. Он пытается сосчитать, сколько с того прошло дней, но теряет счет. Слова зарылись в него и впали в спячку, они заледеневший клубок внутри него, как внутри земли, свернулись, уснули и ждут оттепели.
Ты такой тихий в последнее время, милый, говорит Ханна, чуть помедлив с мечтательным расчесыванием своих длинных, до пояса, волос. Но, столкнувшись с колтуном, сдается. Притягивает Кроха к себе. У него внутри слишком больно колет, чтобы смотреть на нее, поэтому он отворачивается, усаживается на ее костлявые колени и позволяет себя причесать. Зубья расчески так нежно касаются его головы, что хочется плакать. Он и позабыл совсем, как это бывает приятно. А она прижимает губы к его макушке и говорит: Мой сильный, мой тихий мальчик. Давай-ка вместе споем. И начинает, скрипучим голосом, но он не подпевает ее колыбельной, и когда он этого не делает, она тоже перестает петь.
* * *Проснувшись, он видит, что Эйб смотрит на Ханну, когда та спит. Эх, думает Крох. Он ждет, но Эйб ложится. Так что это Крох, кто трогает свою маму, гладит ее лицо, руки, живот, снова, снова и снова.
* * *Днем в Розовом Дударе он прячется за коробкой с игрушками, пока других детей одевают, чтобы прогулять их на воздухе. Он остается один в притихшем автобусе. Крики, доносящиеся снаружи, пригашены заснеженным миром, а малыши внизу перекусывают под присмотром Марии или пьют из бутылочек. Обхватив себя руками за плечи, он рассказывает себе историю про девушку и ее братьев-лебедей, держит ее в уме и рассматривает то так, то эдак, чтобы понять, что она для него значит.
Давным-давно, говорит он себе, жила-была принцесса. Она жила с шестью братьями в глухом лесу, прячась от злой новой жены своего отца. Мачеха узнала, где они живут, и связала из колдовства шелковые рубашки, накинула колдовские рубашки на мальчиков и превратила их в лебедей. Принцесса опечалилась, когда ее братья улетели, и пошла по лесу, чтобы найти их. Она шла и шла, пока не набрела на хижину. Когда стемнело, она услышала шум крыльев, и шесть лебедей влетели в окно. Они сняли крылья и превратились в ее братьев, но могли оставаться в человеческом облике лишь короткое время, пока разбойники, хозяева этой хижины, не вернутся домой с добычей. Она спросила своих братьев, как отменить заклятие, и они сказали, что шесть лет она должна прожить, ни разу не засмеявшись, не запев и ни слова не вымолвив. И еще она должна сшить шесть рубах из седмичника, цветок которого похож на звезду.
Но помни, сказали они, если ты скажешь хоть слово, чары будут разрушены, и мы навек останемся лебедями.
И девушка ушла собирать цветы, похожие на звезду, и шить. Она вела себя тихо как мышка. Но однажды какие-то дядьки шли по лесу и увидели девушку на дереве, на котором она жила. Они позвали ее спуститься, но она покачала головой и только сбрасывала с себя одежду, пытаясь прогнать их, пока не осталась голой. Тут они потащили ее к королю тридевятого королевства, который женился на ней, хотя она не сказала ему ни слова. Но когда девушка родила, мать короля украла ребенка и сказала королю, что это его жена дитя съела. Так повторялось три раза, пока король не поверил, что его жена ест детей, и не приказал убить ее. В тот день, когда она должна была умереть, как раз кончались те шесть лет, которые девушке полагалось молчать, и она успела сшить пять рубах, а рукав шестой пришить не успела. Братья подлетели к ней, и она набросила на них рубашки из звездного цветка, и они снова превратились в людей, только у того брата, которому не хватило законченных рубашек, вместо одной руки осталось лебединое крыло. Затем девушка смогла говорить, и она объяснила, что произошло, и детей вернули, а мать короля посадили на электрический стул. И с тех пор девушка и ее братья жили счастливо. Конец.
Перед Крохом – видение праздника: бочонок с Кисло-сидром, на небе звезды, мальчик, по спирали летящий к Луне, девушка, золотистая и округлая, как Ханна летом, та прежняя Ханна, которая на пиру стояла на скамейке и кричала о свободе, любви и единстве. Он представляет себе тех деток, которым столько лет пришлось прожить без матери, каково это было, впервые оказаться в ее объятиях, прижаться к ее теплому телу. Как они, наверно, вцепились в нее, не оторвать. Только представить, что и ему нельзя разговаривать шесть лет, пока не исполнится почти двенадцать, шесть лет – это так много, больше, чем он уже прожил на свете. Перед ним простираются дни. Он пытается не заплакать, но мир, что виден ему с того места, где он прячется, (это верхний отсек Дударя с кучей гамаков, которые хранятся там в течение дня, на краю кучи валяется детский башмачок), плывет у него перед глазами.
Наконец он думает о Ханне, о ее лице, обращенном к чему-то, чего он не может признать. Эта мысль ударяет его, как током; она рыбой бьется у него в животе. Он должен что-то сделать. Должен.
Он сосредотачивается. Отпихивает слова, и без того хилые, пока те не сдохнут на горькой части его языка. Но они запускают свои гадкие щупальца в его грудь. Скапливаются, как жабы, в пещере его горла. Теперь, гуляя, играя и за едой, он представляет себе скользкую тварь, которая затаилась там злобно и ждет, когда мимо скользнет то слово, и тогда ей выпадет случай проклясть их всех.
* * *Вечером того дня в Хлебовозке на поверхности все идет мирно. Ханна приготовила ужин, и они втроем слушают чей-то голос, скрипуче поющий “Твои глаза сказали то, чего не знал я”[16] на патефоне с ручным заводом, который кто-то из Гаража нашел на помойке в Буффало. Крох сидит на коленях у Эйба, следя за тем, как отец читает газету вслух. Он указывает отцу на заголовок “Гусь покусал ребенка” и издает недавно освоенный им молчаливый смешок, а потом поднимает глаза на Эйба и видит, что отец изучающе на него смотрит, а губы его втянуты в уголках.
Ханна откладывает книгу и громко шмыгает носом. Крох тоже принюхивается. Где-то что-то горит.
Эйб отбрасывает газету. Родители, со значением поглядев друг на друга, вскакивают и как есть, в халатах и тапочках, выбегают за дверь.
Холодный воздух клубится дымом. Тени льются из дверного проема; гонг бьет, бьет и бьет. Первый семейный ангар – в огне. Подбежав к Розовому Дударю с Крохом на руках, Эйб закидывает его внутрь, и детей, которые живут в семейных ангарах, тоже туда закидывают: и Джинси, и Сая, и Франклин, и Али, и Пух, и Молли, и Фиону, и Коула, и Дилана. Повитухи исчезли. Дети, которые и так живут в Дударе, сбегают вниз, а Беременные приходят туда из Курятника, дрожа и стряхивая грязный снег со своих ботинок. Фланнери, Иден и Смак-Салли подхватывают и приголубливают самых маленьких. Крох тоже сходит за маленького, и его прижимают к своему тугому теплу, и Крох снова рад, что так мал, и благодарен за то, что его обнимают мягкие руки.
Где Фелипе? – шепчет Фланнери, и Имоджин, которая живет в Первом семейном ангаре, делает большие глаза.
Лейф и Эрик подсаживают Кроха к окну, чтобы он тоже увидел, что там, хотя видеть особенно нечего: мир по ту сторону Двора переливается желтым и серым, в островках не растаявшего еще снега отражаются сполохи огня, тени людей мечутся с ведрами.
* * *Бочком подходит Дилан. Он младше Кроха, но выше. Там бабахнуло, тихонько говорит он. Там, где живут Рикки, Фелипе и Мария. А потом у Марии сделались из огня крылья.
Заткнись, Дилан, говорит Колтрейн, пихает своего младшего брата и по винтовой лестнице бежит наверх, туда, где натянуты гамаки.
У Дилана наворачиваются слезы. Он еще ближе подходит к Кроху.
У нее правда были из огня крылья, шепчет он сонным голосом. И волосы из огня, Крох. И полная огня голова.
* * *Крох так долго всматривается в горящий ангар, что все расплывается у него перед глазами. Остальные дети уже легли спать. Беременные сидят за кухонным столом, пытаясь запить рыдания стаканом воды или чашкой ромашкового чая.
В окно он видит, как люди медленно разбредаются по домам. Некоторые из тех, кто жил в сгоревшем ангаре, находят пристанище в пристройке Ганса и Фрица, потому что эти двое сейчас в туре с Хэнди. Беременные возвращаются в Курятник. Лишь некоторые еще остались во Дворе, глядят на искореженный металл и тлеющие внутри уголья. В тускло мерцающей темноте он узнает своих родителей, которые стоят, прислонившись друг к другу, высокая Ханна и высокий Эйб, ее косы у него на плече, его рука обнимает ее за талию. Крох смыкает глаза и вслепую нащупывает путь в спальный мешок Джинси, с желанием, чтобы родители так и стояли там вместе.
* * *Утром становится ясно, что Рикки, Марии и Фелипе нет.
Крох подслушал, как Астрид сообщала старшим детям, что ребенок умер. Она плачет, кривя губы над своими ужасными желтыми зубами, совсем как лошадь, которую амиши приводят собирать урожай, когда та берет губами морковку.
Сгорел? – спрашивает Молли, которая все плачет и плачет. Ее сестра Фиона всхлипывает, закрыв лицо ладонями так, что виден только ее высокий белый лоб.
Сгорелое дитя. Крох представляет себе съеженную черную зефирку на краю костра, как бывало в те времена, когда Астрид еще не объявила войну сахару.
Нет, говорит Астрид. Он задохнулся дымом. Во сне. Это маленькое, но утешение. Мария обгорела, но скоро будет дома. Рикки с ней в больнице.
Хэнди должен узнать об этом, сердито говорит Лейф. Хэнди узнает, вернется домой и все исправит. Мой отец может это исправить.
Астрид забавно втягивает в себя воздух, что означает у нее “да”. Согласие на вдохе, называет это Ханна. Я позвонила Хэнди в Остин, говорит Астрид, целуя Лейфа. Это в Техасе. Он просил меня передать вам, что он любит нас всех и посылает флюиды любви в эфир. Он хотел вернуться домой, но Мария и Рикки сказали: нет, раньше срока возвращаться не надо, нам нужны деньги от концертов. Кроме того, они еще не готовы к поминальной службе. Мы устроим ее по Фелипе весной.
Я хочу к папе, бормочет Лейф; его лицо, лицо большого уже мальчика, сморщивается, и он начинает плакать.
Астрид притягивает его к себе, притягивает к себе всех своих детей, Эрика и Лейфа, лягушечку Хелле, беспокойного Айка, и говорит в их макушки, одинаково белокурые: Ну, это совсем другая история.
Утром Крох бежит к ручью, который течет в лесу. Желтые зубцы льда окаймляют воду. Крох становится коленями на лед и сует голову в ручей, холодный как раз в той мере, чтобы вырвать у него дыхание, и ему становится легче.