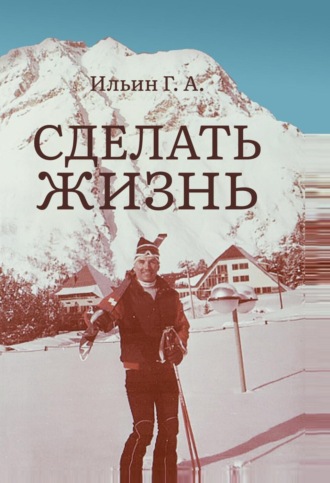
Полная версия
Сделать жизнь

Геннадий Александрович Ильин
Сделать жизнь

Автору 30 лет
© Г. А. Ильин, 2023
Эти воспоминания я посвящаю молодому поколению, моим внукам и правнукам. Несомненно, ваша жизнь будет проходить совсем в других условиях и, надеюсь, в гораздо лучше наших. Но перед вами также несомненно рано или поздно встанет вопрос, как прожить жизнь, дарованную вам родителями? Какие выбрать пути и как правильно их пройти? Как добиваться своей цели, а главное, как прожить жизнь плодотворно, честно и интересно?
Может быть, мои воспоминания помогут вам принять правильное решение или избежать роковой ошибки. Условия меняются, но главные цели в жизни, как и само понятие «жизнь», не меняются. Как написала в одном из своих романов Виктория Токарева: «Жизнь – это творчество». Да, свою жизнь надо творить самому.
Вступление
Эта книга – автобиография. Казалось бы, я не совершил в жизни ничего выдающегося, чтобы имело смысл писать историю своей жизни. Но вначале меня подвигли на это мои студенческие однокурсники, и после того, как вышла книга «Автобиография курса Т-54 Московского энергетического института», в которой размещены и мои две статьи воспоминаний, которые понравились моим однокурсникам, я решил дополнить эти воспоминания отдельной книгой. Притча Якова Кедми «Никто» об уходящем поколении и мнение известного советского писателя и сценариста Юрия Нагибина, высказанное им в книге «Московская книга», укрепило меня в правильности моего решения. Привожу притчу Кедми полностью, а также цитаты из книги Нагибина, чтобы читатель мог понять, чем я руководствовался при написании этой книги. Наше поколение, пожившее при социализме, уходит, и надо оставить что-то в памяти потомков.
Никто
Яков Кедми
Никто не штопает носки. И уж если совсем поглубже в историю – никто из тех, кому меньше шестидесяти, не знает, что такое перелицевать костюм или пальто.
Никто уже не чистит ковры первым снегом или соком от квашеной капусты.
Никто не протирает тройным одеколоном головку звукоснимателя в кассетном магнитофоне. Как и не склеивают лаком зажёванную пленку в кассетах.
Никто уже не вырезает телепрограммы из субботней газеты и не подчёркивает в ней интересные передачи, на которые нужно успеть.
Никто уже не посылает сервелат в посылках.
Никто уже не хранит пустые пивные банки в серванте.
Никто уже не хвастает умением разжечь спичку, чиркнув её об оконное стекло или о штанину.
Никто уже не считает, что лучшее средство от кашля – это банки или медовый компресс на ночь.
Никто уже не вешает ситечко на носик чайника.
Никто уже не заправляет одеяло в пододеяльник через дырку посредине.
Никто уже не стирает полиэтиленовые пакеты.
Никто уже каждый вечер не заводит часы и будильник.
Никто уже не разбрызгивает воду изо рта во время глажки брюк.
Никто уже давно не чистит зубы щёткой из натуральной щетины. Странно, а они были самыми дешёвыми.
Никто уже не подаёт покупные пельмени в качестве главного блюда на праздничном столе.
Никто уже не наворачивает вату на спичку, чтобы прочистить ушные раковины.
Никто уже не помнит, чем отличается синяя стёрка от красной. А я помню! Синяя стирает карандаш, а красная стирает чернила и проделывает дырки в бумаге.
Никто уже не считает, что банный день должен быть именно раз в неделю.
Никто уже не коллекционирует полезные советы из отрывных календарей.
Никто уже не наклеивает переводилки на кафельную плитку.
Никто уже не ходит в фотоателье, чтобы сделать ежегодный семейный портрет. Никто не украшает стены квартиры выжиганием или чеканкой собственного изготовления.
Никто уже не вяжет банты на гриф гитары.
Никто и не вспомнит, что когда футболка торчит из-под свитера – это называется «из под пятницы суббота» и вообще это просто неприлично!
Никто уже не оставляет масло на сковороде «на следующий раз».
Никто уже не боится, что сливной бачок в один прекрасный день всё-таки упадёт на голову.
И никто уже давно не слышал свежих анекдотов про Штирлица и Василия Ивановича.
Грустно.
Мы будем первым поколением, что не оставит от себя следов.
Мы не оставим своих писем. От себя из юности, когда так остро и неразделённо, а позже понимаешь, что не с тем. Мы не оставим писем от себя постарше для друзей, с которыми тоскуем по неважным прежде дням. Мы не оставим своих почерков, затёртой, смятой, сложенной бумаги, конвертов с адресами, штемпелями, именами тех, кому и от кого.
Мы не оставим фотографий. Они все сгинут в электронной суете. Нам и сейчас уже не вынуть фотоальбом, нам и сейчас не подписать на обороте – нету оборотов. Мне негде написать, что это Женька, а это Маша, а это мы. Мы не оставим своих лиц.
Не будет мемуаров, дневников, записок, писем, фотографий разных лет, почерков, всего, что для кого-то остаётся нитью к нам, ушедшим навсегда. Мы будем первыми, кто растворится без следа. Привет, эпоха гаджетов, компьютеров и соцсетей.
Ты умудрилась нас стереть.
Я, автор этой книги, старше Кедми на 13 лет, и я могу к его НИКТО добавить ещё десяток своих. Но лу чше прочитайте книгу, там много информации, о которой НИКТО уже не узнает и не вспомнит.
Цитаты из книги Ю. Нагибина «Московская книга»:
«… убеждён, что каждый серьёзно и глубоко живущий человек может написать одну книгу – о себе самом, своей жизни, и это будет представлять известный интерес, независимо от меры литературной одарённости автора. Богатейшая мемуаристика прошлого века служит тому доказательством». «…Каждый должен оставить своё жизнеописание, и если оно не увидит свет, то явится материалом для профессиональных писателей, т. е. всё равно сослужит добрую службу».
Часть первая
Дорога длиною в жизнь
Вместо предисловия
Семь слоников
Давным-давно жил-был маленький мальчик. Жил он вдвоём с мамой. Жили они очень бедно. Часто на обед кроме картошки с солью у них ничего не было. Даже хлеба. Однажды мальчик, зайдя к соседям в гости, увидел у них на полке семь маленьких, мал мала меньше, фарфоровых слоников. Вечером мальчик спросил у мамы, зачем люди поставили слоников. И мама ему ответила, что люди говорят, будто эти слоники приносят счастье в дом.
Мальчик очень любил маму и хотел, чтобы она была счастлива. Он учился во втором классе и по дороге в школу иногда заглядывал в лавку старьёвщика. Мальчик любил разглядывать диковинные вещи, которые можно было увидеть в лавке. Старьёвщик был старый и добрый человек, и он не прогонял мальчика. И однажды мальчик увидел семь маленьких, мал мала меньше, фарфоровых слоников. Старьёвщик их продавал. Мальчик спросил, сколько стоят слоники. Старьёвщик ответил: «Двадцать один рубль». Для мальчика это были громадные деньги. Но он очень любил маму и очень хотел ей счастья. Он решил накопить эту сумму. Мама иногда давала ему двадцать или тридцать копеек на покупку бублика в школе или на другие мелкие расходы.
Прошло несколько месяцев, мальчик заходил в лавку и убеждался, что слоники не проданы. А может, у старьёвщика был не один набор слоников. Мальчик этого не знал. Наконец настал день, когда мальчик явился в лавку и вытащил целую пригоршню мелочи. Старьёвщик пересчитал мелочь, там было ровно двадцать один рубль, и он уложил слоников в коробку и передал мальчику. Мама очень удивилась, увидев слоников.
– Зачем ты их купил?
– Мама, ты сама сказала, что они приносят счастье.
– Сын, так только говорят, если бы они на самом деле приносили счастье…
Однако слоников поставили на полку дивана, на котором спал мальчик. Прошли годы. Мальчик стал старцем. Мама умерла. Слоников перевозили с квартиры на квартиру, их убирали во время ремонтов, и всё-таки к концу жизни у старца остался только один слоник. Остальные были утеряны по жизни.
Прочтя эту книгу, вам, дорогой читатель, судить, приносят слоники счастье или нет.
Глава 1
Детство
Я родился в Москве 28 февраля 1937 года. Мои бабушки и дедушки по обеим линиям приехали в Москву из Тульской и Рязанской губерний в начале прошлого века и происходили из крестьян. Так что я москвич в третьем поколении, но из крестьянского сословия. Моя бабушка по материнской линии в молодости ещё успела поработать ключницей в крупном имении под посёлком Одоевым. Мне запомнилось её умение солить капусту, огурцы, грибы. Моя тётя по материнской линии, уже позже, после смерти бабушки, рассказывала мне о посёлке Одоев и как они ездили на родину бабушки и дедушки, которые происходили из села вблизи Одоева.
Дед первым уехал на заработки в Москву. Он устроился в торговой лавке сначала помощником и грузчиком, а потом его перевели в приказчики. Перед отъездом в Москву бабушка обещала ждать деда, и ровно через год дед приехал в отпуск за бабушкой. Они обвенчались в одной из церквей Одоева, и дед вернулся в Москву с молодой женой. Они прожили всю жизнь вместе. У них родилось три дочери, Тоня, Надя, Анна, и сын Сергей. Моя мать – Надя, средняя дочь. Бабушка и дедушка прожили недолгую жизнь, чуть больше шестидесяти лет. На их долю выпало слишком много испытаний. Сначала Первая мировая война, потом революция, потом Гражданская война, после неё разруха и голодомор, потом военный коммунизм сталинских пятилеток и под конец – Великая Отечественная война.
Почему-то рассказы моей тётки о посёлке Одоев запали мне в душу. Там были мои древние столетние корни, ведь крестьяне вели оседлый образ жизни. Крепостное право не давало им свободу перемещения. И вот совсем недавно, в 2020 году, моя мечта исполнилась. Я уговорил жену съездить на машине в Тулу, посетить усадьбу и могилу Льва Толстого «Ясная Поляна», а на обратном пути заехать в Одоев, который расположен всего в 60 км от Тулы.
Посёлок оказался раскиданным по нескольким холмам с глубокими оврагами между ними. Где-то внизу, невидимая с дороги, протекает река Упа. На центральной площади стоит, как и положено, памятник Ленину, а на улице Победы стоит монумент «Мать и дитя». Этот памятник посвящён легендарному мему русского языка – Кузькиной матери. Кузькина мать несёт мир всему миру. Стоит эта женщина на постаменте с маленьким Кузькой и голубем в руках. «Мы вам покажем Кузькину мать». Ай да Одоев, ай да молодец. В нём насчитывается четыре церкви, но открыта только одна, остальные на реставрации. Мы посетили её и поставили свечку. В одной из этих церквей венчались мой дед и бабушка. Может быть, именно в этой, кто знает.
В посёлке также имеется довольно знаменитая фабрика и музей филимоновской игрушки. Кое-где мы увидели в посёлке пасущихся коров и коз. Городок вперемешку с деревней. На центральной площади у церкви – маленький рыночек, два одноэтажных магазина. На отдалении – новое яркое здание детского сада. В общем, типичная русская глухомань с ростками современной цивилизации. Моё любопытство было удовлетворено.
А вот по отцовской линии сведений у меня совсем мало, и это несмотря на то, что до двадцати двух лет я жил бок о бок со своей родной тёткой по отцу, тётей Настей. Её комната находилась рядом с нашей в общей большой коммунальной квартире. Она была замужем, и у неё был сын Юра, мой двоюродный брат, с которым я рос, дружил и играл до студенческих лет. Однако тётя Настя почти ничего не рассказывала мне о своих родителях и семье. Знаю только, что мой дед по отцу Порфирий сгинул в 1944 году в Смоленске после освобождения города от немцев. Он был послан туда в командировку для ревизии какого-то имущества и пропал без вести. Времена были тёмные и бандитские. Бабушку, жену Порфирия, звали Васёна. Она жила в Москве, но я видел её только один раз, вскоре после окончания войны, когда отец отвёз меня к ней в гости. Кроме моего отца, Александра Порфирьевича, у бабы Васёны были ещё три дочери. Двух из них я знал, это, конечно, наша соседка по квартире тётя Настя и вторая, тётя Надя.
Вообще первые мои воспоминания, связанные с осознанием мною окружающего мира, приходятся на возраст около чеырёх лет, на весну 1941 года, когда ещё войны не было. Помню, как я выучил стихи Корнея Чуковского «Мойдодыр» наизусть, а моя тётя по матери, тётя Тоня, уговорила меня продекламировать эти стихи гостям и одновременно переворачивать страницы книги, как будто я умею читать. Трюк, конечно, был раскрыт гостями, но конфету я заработал. И ещё помню, мать с отцом повели меня покупать велосипед в универмаг на Красной Пресне (магазин и сейчас существует). Велосипед купили, и отец хотел купить ещё пружинное детское ружьё, которое стреляло палочкой, на конце которой располагалась резиновая присоска. Не знаю, почему этот эпизод врезался в мою память на всю жизнь, но отчётливо помню, что когда в магазине отец дал мне это заряженное ружье в руки, я мгновенно прицелился им в мужчину в очках и выстрелил прямо ему в лоб, так что очки у него соскочили. А вот купили мне это ружьё после такого выстрела или нет, не помню. Помню только, что все люди, окружавшие тогда меня, были спокойные и счастливые.
Следующие воспоминания идут также отдельными мазками. Вот отец несёт меня на руках по нашему переулку, почти бегом, воет сирена, мать бежит рядом. Я ничего не понимаю, но то, что взрослые люди были напуганы, передалось и мне. Война, немцы бомбили Москву. Дом, в подвале которого находилось бомбоубежище, и сейчас стоит на углу Красной Пресни и Волкова переулка, а наш дом номер 12 находился по Волкову переулку и выходил окнами прямо на зады зоопарка. Этот дом сейчас не существует. На его месте построено здание ГАИ. Ещё помню, как мужское население нашей коммуналки загружало песок на чердак нашего деревянного двухэтажного дома для того, чтобы гасить зажигательные бомбы. На Красной Пресне было много заводов, и немцы усиленно бомбили этот район Москвы.
В сентябре 1941 отец отправил нас от своего завода в эвакуацию. С нами ехала и тётя Надя, жена моего дяди по матери, Серёжи. Ехала она с сыном Толей, моим двоюродным братом. Ехали в товарных вагонах. Привезли нас в Вятские Поляны (Мордва). Поселили в хате. Мать работала в колхозе. Помню, как-то она меня взяла с собой в поле. Женщины серпами резали лён и вязали его в снопы. Для городских женщин работа была тяжёлая. Весной 1942 года приехал отец. Его военный завод эвакуировали из Москвы в Вятские Поляны. Почему-то мать с отцом там часто ругались. Мать перешла на работу в инкубатор по выращиванию цыплят. Скоро на яйца мы смотреть не могли. Осенью 1942 года отца забрали на фронт, и он к нам уже более не вернулся.
Вновь я увидел его уже после окончания войны в июне 1945 года с новой полевой женой. Ох и обидно мне было до слёз! У многих мальчишек, моих сверстников, отцы погибли на фронте, и это справедливо считалось достойным уважения и сочувствия, а у других отцы возвращались, и они ходили героями. Я, как и многие мои сверстники, вначале ждал отца с фронта, потом, когда в начале 1945 стали возвращаться некоторые отцы, мать мне объявила, что отец погиб и ждать его не надо. Правду я узнал случайно. В школе объявили, что для детей погибших отцов открыта столовая (столовая находилась в районе Пушкинской площади). Я поехал туда, отстоял длинную очередь, и когда проверили списки, мне объявили, что отец мой жив и обед мне не положен. В школе на уроке у меня случилась истерика. Я громко рыдал на весь класс. Вызвали мать в школу, тогда всё и открылось.
В начале 1943 года, после разгрома немцев под Сталинградом, было ограничено, но всё-таки разрешено возвращение в Москву из эвакуации. За нами приехала мамина сестра, тётя Тоня, которая работала в московской милиции телефонисткой и поэтому получила пропуск и разрешение на поездку за нами. Основным детским воспоминанием трёх последующих лет был голод. По возвращении в Москву мы с матерью жили в семье бабушки и дедушки в Большом Демидовском переулке, район улицы Баумана. Сейчас этого дома тоже нет. В двухэтажном доме у них было две комнатки. С ними жили и обе мои тётки, мамины сестры. Был ещё у сестёр и брат Серёжа, но в начале сентября 1941 он ушёл на фронт и через две недели погиб под Старой Руссой. Я его почти не помню. Но у него остался сын Толя, мой двоюродный брат, который сейчас живёт в Киеве, и я с ним поддерживаю связь.
А тогда, в 1943 году, помню, как бабушка утром делила мою дневную норму хлеба на четыре части и выдавала мне одну часть утром, остальные прятала, вернее, убирала. Но я не мог терпеть и съедал все свои доли уже к обеду. Нас спасало то, что во дворе в сарае для дров с погребом были заготовлены с осени картошка и солёная капуста. А дед, который работал завхозом в типографии (рядом с домом), привозил иногда бидон мясного бульона из костей. Дома наступал праздник. Бабушкины щи из квашеной капусты на этом бульоне я до сих пор помню.
Летом 1943 года с фронта вернулся муж тёти Тони. Он попал в штрафбат, провёл зиму и весну сорок третьего года в болотах под Демянском, заработал открытую форму туберкулёза, и его отпустили домой умирать. Тётка продавала на барахолке его костюмы и другие вещи и покупала ему продукты, пытаясь спасти. Как-то он угостил меня кусочком шоколада, тётка стала кормить его не в моём присутствии. Через два месяца он умер. В начале сорок четвёртого года стала поступать американская помощь. Запомнил большую банку с тушёными в томате бобами. Тогда мне казалось, что это самая вкусная еда на свете. Собственно, и сейчас люблю фасоль в томате.
Как жили люди в те времена и как помогали друг другу, можно показать на одном примере, который остался в моей памяти. Сейчас таких отношений между людьми и в помине нет. Однажды летом 1944 года тётя Аня, младшая сестра моей матери, привела в наш дом солдата на костылях. Он ехал из госпиталя на родину в Молдавию. Попросился на побывку до поезда. Поезда тогда ходили нерегулярно и редко. А мы сами ютились в двух комнатушках шесть человек, из них три относительно молодых женщины. Бабушка поворчала на дочь, но солдата оставила, а потом даже подобрела, когда он выложил солдатский паёк на стол, в том числе несколько банок американской тушёнки. Поселили его на полу в углу комнаты, где спали бабушка с дедушкой и я. Прожил он у нас около недели. Дело закончилось тем, что перед отъездом солдат вызвал мою мать в город на прогулку и там сделал ей предложение: поехать вместе с ним к нему на родину на Дунай в город Измаил. Мать отказала, а то бы вырос я на берегу Дуная в семье сапожника.
В августе 1944 года мать переехала в нашу комнату на Волковом переулке (что на Красной Пресне), чтобы я пошёл в школу по месту прописки. Без поддержки бабушки нам с матерью пришлось туго. Иногда в доме была только картошка в мундире, на которую я уже не мог смотреть. Правда в школе нам давали завтрак: бублик и стакан горячего сладкого чая. Но этого было недостаточно. По телу пошли чирьи, завелись вши. Помогла школа. При школе был врач, он прописал мне рыбий жир и гематоген (по карточке по рецепту), и это меня спасло. Голодали многие. Кто-то в классе заболел туберкулёзом. Карточная продуктовая система просуществовала до конца 1946 года. После окончания войны жили впроголодь ещё полтора года. С тех пор я не могу оставлять в тарелке недоеденную пищу и меня коробит, когда я вижу, как теперь люди легко бросают еду в помойное ведро. Их бы к нам в те времена.
Американская продуктовая помощь закончилась, и это чувствовалось. Мать для удобства прикрепляла свои карточки к магазину, расположенному недалеко от её работы. Работала она тогда простой чертёжницей в тресте «Энергоуголь» на площади Ногина (сейчас площадь Китай-город). Часто у неё не было времени выстаивать часовые очереди в магазине, чтобы отоварить карточки, и я ездил в магазин и отстаивал там два-три часа. Окружавшие взрослые люди меня не обижали. Все были привыкшие к очередям и уважали друг друга, а продавщицы никогда не обсчитывали и не обвешивали. Времена были суровые, могли за это и расстрелять. Продавщица сама отрывала мне нужные талоны в карточке, например, жиры (а это было либо сливочное, либо подсолнечное масло – это если повезёт, либо маргарин, либо зальц – если не повезёт), потом получала с меня деньги и отсчитывала сдачу. Было мне тогда восемь лет. Я и к бабушке ездил через всю Москву один, и никто меня не трогал.
Ещё большие очереди, многочасовые, были одно время в сорок седьмом году за хлебом (в 1946 году случилась засуха и был большой неурожай), когда карточки на хлеб были уже отменены. Хлеб отпускали по две буханки в одни руки. Но панику быстро прекратили, поставки хлеба упорядочили. Карточки полностью отменили в 1947 году, и голод закончился. В магазинах в свободной продаже появилась икра красная и чёрная, осетрина, сёмга, нельма, крабы, колбасы варёные и копчёные. Но эти деликатесы стоили очень дорого и были нам с матерью не по карману.
Из воспоминаний военного времени у меня осталось ещё следующее. Весной 1943 года, уже в Москве, я тяжело заболел корью с высокой температурой, провалялся несколько дней. Мать говорила, бредил. Когда очнулся, попросил яблоко. Что продали, где достали в марте яблоко, не знаю, но привезли, я съел и пошёл на поправку. Осенью 1944 года, когда мы с мамой уже жили на Волковом переулке, я ходил смотреть на пленных немцев. Их гнали по Садовому кольцу, они шли рядами, соблюдая строй, а я стоял в толпе на площади Восстания. Жалкое это было зрелище. Они шли измождённые, уставшие, безучастные. Народ тоже молчал. Только некоторые изредка кричали: «Изверги!», а некоторые кидали хлеб.
День Победы объявили по радио 9 мая. Мы, всё население нашей коммуналки, вышли на улицу так же, как и весь дом и жильцы ближайших домов. Все поздравляли друг друга, обнимались, женщины плакали от радости. Вечером был грандиозный салют. Все надеялись, что наши беды закончились, но впереди нас ждали ещё полтора голодных года.
После войны, году в 1946, у нас на Пресне появилось много дешёвых пивных, где собирались инвалиды войны: без рук или ног, одноглазые или слепые, изувеченные душой и телом. Они пили пиво и водку, играли на гармошках, плясали, пели и спали там же. Нам, мальчишкам, было весело и смешно смотреть на этих людей. Мы даже давали им прозвища типа Билли Бонс, Одноглазый, Хромой, Костыль и т. д. Тогда мы не понимали их трагедию, не понимали, что это были несчастные калеки, отдавшие своё здоровье Родине и брошенные обществом, государством и скорее всего и родными. Потом они в одночасье исчезли. Только много, много лет спустя стало известно, что всех их собрали и вывезли далеко от Москвы в дома инвалидов. Например, теперь доподлинно известно одно место: Валаамский монастырь на Ладоге. Там они старились и умирали, не получив никакой компенсации за ратный подвиг.
Рос я как все мальчишки нашего рабочего двора. Учились мы отдельно от девочек все десять лет. В нашем дворе, в котором располагалось четыре небольших дома, проживало четыре девочки нашего возраста, но они с нами не дружили. А ребят была целая ватага: человек десять-двенадцать. Взрослые работали целыми днями, и мы были предоставлены сами себе. Мы играли, конечно, в войну, дрались с ребятами соседнего двора, гоняли в футбол. Никаких мячей у нас не было, их заменяли консервные банки или комок тряпок. Зимой катались на самодельных салазках, сделанных из стального прута. Особенным шиком считалось с помощью крюка зацепиться за проезжавший по переулку грузовик и проехать за ним как можно дольше, удерживаясь на узких полозьях салазок, будучи сам обут в валенки.
Весной играли в лапту (чижика), в городки, в «пристенок» (это игра на деньги, мелкие монеты). Надо было ударить монетой о стену дома так, чтобы она отскочила как можно дальше, а второй игрок должен был своей монетой ударить о стену так, чтобы она подлетела к монете первого игрока как можно ближе. Если монета соперника падала так близко, что её можно было коснуться, растянув ладонь и пальцы одной руки от одной монеты до другой, соперник забирал монету. Если нет, то первый игрок брал свою монету и повторял манипуляцию второго игрока.
Также на деньги играли в «разшиши». В этой игре монеты всех участников складывались в стопку, решками строго вверх на определённую черту на земле. Затем участники отходили на определённое расстояние, каждый со своей битой размером примерно 4–5 см, и кидали по очереди свою биту, стараясь попасть ею в стопку монет. Если удалось попасть в стопку, часть монет разлеталась. Те монеты, которые падали вверх орлом, забирались удачливым игроком. Кроме того, он получал право ударить отлетевшую монету, но упавшую снова на решку, битой по краю монеты, чтобы она перевернулась на орла. Поэтому «добычливые» биты пользовались большим спросом и выменивались на что-нибудь другое, например, на кусок жмыха, который можно было сосать весь день и не испытывать чувство голода.

