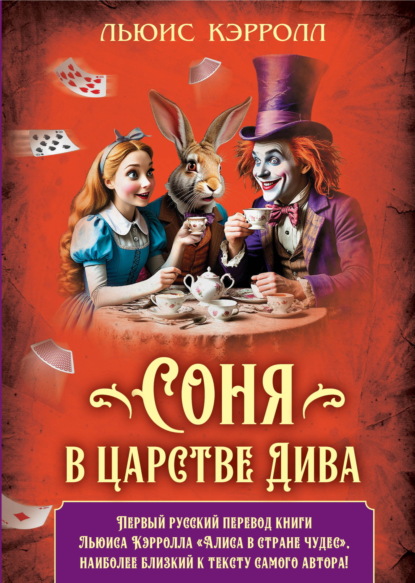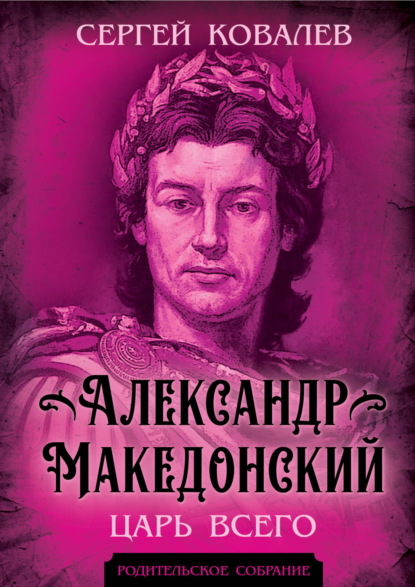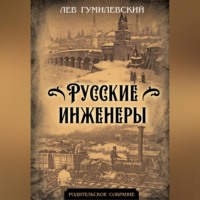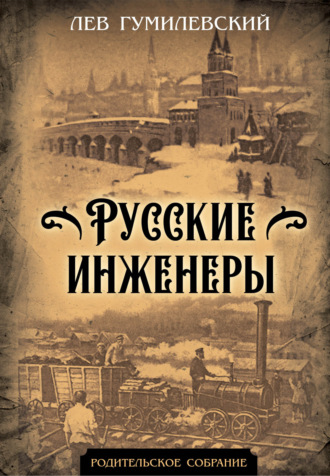
Полная версия
Русские инженеры
И хотя правящие круги России в течение почти двух столетий пренебрежительно относились к русской культуре, науке и технике, превознося опыт иностранцев, выходившие из народа мастера, художники и изобретатели с большой энергией отстаивали свой собственный путь развития, сопротивляясь чужеземному влиянию.
И, оставаясь иногда выполнителем чужих проектов, русский человек вносил в дело свою неповторимую творческую сущность.
Вот почему многие памятники русского строительства, если даже формально и являются созданиями чужеземцев, по сути остаются явлением русского народного творчества.
Можно ли не почесть, например, таким памятником знаменитый Большой Каменный мост на Москве-реке?
До этого моста в Москве, как и в других русских городах, расположенных на реках, мосты были главным образом «наплавные», или «живые». При замерзании и вскрытии рек наплавные мосты снимались, и москвичи лишались сообщения с Замоскворечьем, которое быстро росло и представляло нераздельную часть города. Постоянный мост в середине XVII века был такой настоятельной необходимостью, что в Москву вызвали иностранного «палатных дел мастера» Яна Кристлера, которому и поручили построить постоянный и, как было принято за границей, каменный мост через Москву-реку.
Кристлер изготовил модель моста, или, как тогда говорили, чуждаясь иностранных слов, «мостовой образец». Образец вместе со сметой был представлен царю Михаилу Федоровичу. Думные дьяки указали мостостроителю на необходимость прежде всего предусмотреть ледоход, о силе которого иностранный мастер едва ли имел должное понятие, а затем и. специальную нагрузку – перевозки пушек и снарядов. Кристлер заявил, что ни от ледохода, ни от больших нагрузок «мосту порухи не будет», и начал готовиться к постройке моста.
Однако в разгар приготовлений умер царь Михаил Федорович, а вскоре скончался и Кристлер. Грандиозное начинание было заброшено на три десятилетия, до того времени, когда царевна Софья привлекла к делам государства князя Василия Васильевича Голицына. Среди других мероприятий он указал на необходимость осуществления проекта Каменного моста.
Розмысл, который взялся, бы за постройку моста, нашелся не сразу, но он все-таки нашелся. Это был мастер-монах, имени которого история нам, к сожалению, не сохранила. Человек большого опыта, он скромно и успешно закончил в 1687 году постройку моста.
Это было грандиозное сооружение, которое в его осуществленном виде вряд ли счел бы своим детищем сам Ян Кристлер. Мост состоял из семи речных и двух береговых пролетов, имея сто сорок метров длины и двадцать два метра ширины. На одном конце моста русский розмысл поместил высокую каменную башню с шестью проходами, которые завершались сводами. В башне находилась канцелярия какого-то приказа, а под ней торговля. На самом мосту, поражавшем всех своей шириной, располагались каменные палаты с лавками и с таможней.

«Восьмое чудо света» – Большой Каменный мост на Москве-реке, построенный в 1687 году.
Впоследствии взамен этого моста по проекту инженера К. Н. Воскобойникова был построен железный мост, за которым, однако, было сохранено название Большого Каменного моста. Память о нем, как о «восьмом чуде света», хранили все, кому случалось видеть это сооружение.
В величественной красоте Большого Каменного моста, в причудливой его архитектуре, как и в самом размахе постройки, нельзя было не почувствовать национальный русский характер.
Больших мастеров, каким был, например, Фиоравенти, этот характер покорял; маленькие же дельцы и аферисты широтой и добродушием русского человека пользовались для своих выгод.
Характерный в этом отношении случай представляет история Федора и Осипа Важениных, типичных русских розмыслов, потомков новгородского посадского человека Симеона Баженина.
Один из внуков Симеона, Андрей Кириллович Важенин, получил в приданое за своей женой старинную лесопилку, расположенную на реке Вавчуге, при впадении ее в Северную Двину, в тринадцати верстах от Холмогор. Эта «пильная мельница», как тогда говорили, работавшая от водяного колеса, досталась по наследству Осипу и Федору Важениным, детям Андрея Кирилловича. Люди большого ума и широкого размаха, Важенины отправляли лес в Архангельск и по обширным торговым связям своим были хорошо осведомлены о всех новостях современной техники.
В 1680 году Федор Важенин перестроил старую мельницу, находившуюся на левой стороне реки, имевшей в этом месте двенадцать сажен в ширину, а на правом берегу построил новую пильную мельницу. И там и тут Важенин применил известные ему новейшие достижения пильной техники.
Но вот в 1692 году переводчик посольского приказа Андрей Крафт, человек, видимо, проворный и оборотистый, узнал об изобретенной в 1690 году Дени Папеном машине, действовавшей с помощью пара и атмосферного давления. Изобретатель сулил машине широкое практическое применение. Поверив ему на слово, Крафт, пользуясь своими связями и положением, поспешно исхлопотал себе двадцатилетнюю привилегию на устройство в России «мельничных и пильных заводов, действующих водою и паром». Прежде чем построить хотя бы одну мельницу, он на основании полученной им привилегии обратился к Петру I с жалобой на нарушение его монопольных прав Важениными.
Узнав, что мельницы Важениных существовали и работали до выдачи привилегии, Петр жалобу Крафта отверг, но как самый факт выдачи привилегии, так и претензия Крафта дают нам представление о том привилегированном положении, которым широко и в ущерб русским людям пользовались даже такие рядовые работники из иностранцев, каким был Крафт.
Отвергнув претензию Крафта, Петр с великой охотой и удовольствием 10 февраля 1693 года дал на имя Осипа Важенина грамоту, в которой приказал ему «мельницами в Двинском уезде, в старинной его деревне Вавчуге построенными, и заводами владеть и на тех мельницах хлебные запасы и лес растирать и продавать на Холмогорах и у Архангельска города русским людям и иноземцам, а с отпускаемых в море досок платить пошлины».
При первой же своей поездке в Архангельск Петр заехал в Вавчугу и лично познакомился с русскими розмыслами. Важенины, предвосхищая идеи Петра, в 1696 году обратились к нему за дозволением «корабли и яхты у своего завода русскими и заморскими мастерами» строить.
Чтобы оценить эту смелую новаторскую затею, надо вспомнить, как в то время на Руси обстояло дело с кораблестроением.
Во многих старинных документах, в летописях и хрониках Черное море именуется «Русским морем», и если далекие наши предки являлись на нем полными хозяевами, то, очевидно, они были не только хорошими моряками, но и неплохими для своего времени судостроителями.

Пильная мельница XVII века.
Уже самое начало русской истории было связано с развитием судоходства у древних славян и их военными и торговыми морскими походами. Большинство передвижений шло в основном тогда по рекам, как единственным в то время путям сообщения. Североновгородское государство сообщалось по водным системам и волокам, то есть водоразделам между судоходными реками, с Балтийским морем и через него с Западной Европой. Через Новгород же лежал знаменитый путь «из варяг в греки»: из Балтийского моря по Волхову или Западной Двине, по притокам, волокам и по Днепру до Черного моря. Этот путь служил для сношений между Новгородом и Киевом и для военных походов славян против греков, а впоследствии, после завоевания Константинополя турками, против турок.
Суда древних славян не могли быть больших размеров, так как их часто приходилось перетаскивать на руках через волоки. Многие из русских географических названий сохраняют память о таких волоках, например Вышний Волочек, Волоколамск и т. д.
Суда древних славян представляли собой ладьи, выдолбленные из одного громадного древесного ствола, с прибитыми о боков досками. Они вмещали, по свидетельству летописца Нестора, до сорока человек, а по другим сведениям – до шестидесяти. Живший в то время греческий историк Константин Багрянородный сообщает любопытные подробности о русских судах той эпохи.
По его словам, кривичи, лютичи и другие славянские племена зимой рубили лес, строили из него суда и весной привозили в Киев на продажу. Весной весь русский флот спускался по Днепру до порогов, которых тогда было семь. Через пороги суда спускались с большими предосторожностями на шестах, а у самого грозного порога, Ненасытецкого, суда разгружались и товары и суда перетаскивались по суше. Пройдя благополучно пороги, судостроители чистили и оснащали суда, пускаясь на них в плавание по Черноморскому побережью до устья Дуная.
С XII века на Руси появились палубные суда, которые имели то преимущество, что гребцы в них были скрыты под палубой от вражеских стрел.
Первые русские князья совершали не раз морские походы к стенам Царьграда против могущественной Византийской империи; походы эти составили грозную славу воинам Киевской Руси. Татарское нашествие отрезало Россию от Черного моря, и лишь через триста лет здесь снова появляются русские суда. То были «чайки» донских и днепровских казаков, на которых они с одинаковым искусством одолевали днепровские пороги, плавали по морю и вступали в бой с турецкими кораблями.

Русские ладьи на Балтийском море. С гравюры середины XVI века.
Выиграв сражение и захватив добычу, казаки обычно топили вражеские корабли, а не уводили их с собой, – вероятно, потому, что морских гаваней они не имели, а провести по Днепру морские суда было невозможно. Так до азовских походов Петра русские плавали по Черному морю только на «чайках» и челноках.
Балтийское море наши предки называли Варяжским, но Господин Великий Новгород, возвеличившийся благодаря своей морской торговле, полностью, как теперь говорят, контролировал свой морской торговый путь в течение нескольких веков. Военного флота у новгородцев, правда, не было, как и у варягов – норвежцев и шведов. Но каждое купеческое судно вооружалось, и таким путем велась охрана морской торговли. Однако в то время, как соседи Новгорода постепенно перешли от вооружения торговых судов к созиданию постоянного военно-морского флота, новгородцы, занятые своими внутренними делами, не успели, в свою очередь, обзавестись военным флотом и утратили свое морское могущество.
При таком положении вещей морское дело в Новгороде заглохло, а судостроение не шло дальше челноков и ладей, причем случалось, что эти суда просто выдалбливались из дерева.
В те времена на волжских и окских островах росли огромные липы. Из стволов их делались челноки, вмещавшие пятьдесят-семьдесят человек. Такого рода суда стоили дешево, изготовлять их можно было, обходясь чуть ли не одним топором.
Любопытен способ изготовления этих судов, приводивших в изумление иностранцев своими размерами, совершенно не соответствовавшими по величине никаким деревьям. Наши северные поморы и много позднее практиковали при постройке своих судов такой способ выделки «лодочных труб», служащих основой судну.
Толстомерную осину или липу еще на корню надкалывали вдоль деревянными клиньями по одному направлению, что делалось обыкновенно весной. Клинья через каждые трое суток вколачивали все глубже и глубже, чтобы дерево, продолжая расти, раздавалось в ширину. Переменой клиньев и увеличением их толщины, а также закладыванием в расщелину распорок ствол расширяли так, что он приобретал тот первоначальный вид, какой должен был иметь челнок. По прошествии двух, а иногда и пяти лет подготовленное таким образом дерево срубали, а оставшуюся в стволе древесину вырубали топорами или выжигали.
Конечно, судно, прошедшее через такую обработку, с окрепшей на корню формой и зарубцевавшимися линиями носа и кормы, выходило значительно прочнее, объемнее и во всех отношениях лучше, чем при изготовлении челнока из простого ствола срубленного дерева, как бы толст этот ствол ни был.
Этот замечательно остроумный способ выделки лодочных труб был широко распространен. Он имеет весьма древнее происхождение и объясняет, как добивались русские судостроители того, что ширина однодревки в середине верхней ее части была больше толщины дерева, из которого она вырублена.
Еще лет двадцать пять тому назад, в ста верстах от Москвы, в Кашире, на берегу Оки, я видел перед избой у одного потомственного рыбака такой челн, человек на двадцать вместимостью, довольно хорошо сохранившийся. У него не было даже бортовых досок. Борта, толщиной в ладонь, поднимались выше пояса стоящего в челне человека. По словам рыбака, этому челну было не менее ста лет.
Ко времени объединения вокруг Москвы Русское государство оказалось оттесненным и от Черного, и от Каспийского, и от Балтийского морей. У него оставались лишь небольшой кусок Балтийского моря около устьев Невы и Наровы да прибрежье отдаленного Белого моря.
И когда Московское государство, разгромив Казанское и Астраханское царства, вернуло себе Каспийское море и стало стремиться к выходу в Балтийское, на Руси оказалось недостаточно людей, способных строить корабли. В большинстве они находились на севере, у Белого моря. Между тем развивавшаяся торговля с Персией вынуждала иметь торговые и военные суда прежде всего на Волге и в Каспийском море. Не имея таких судов, Московское государство в царствование Михаила. Федоровича не могло взять на себя охрану торгового пути в Персию. Вот почему иноземцам было разрешено строить на русской территории свои корабли, с условием не скрывать от русских плотников «корабельного мастерства». В 1634 году в Нижнем Новгороде был построен голштинцами один такой корабль, названный «Фридриком». Он благополучно спустился по Волге, но на Каспии, у берегов Дагестана, его разбила буря. Торговое предприятие голштинцев не удалось, и больше кораблей они не строили.
В 1667 году, в царствование Алексея Михайловича, русское правительство решило само построить несколько кораблей для охраны торгового пути в Персию. Приглашенные для этого корабельные мастера начали постройку первого военного русского корабля в селе Дединове.
Корабль, названный по указу царя «Орел», был построен и спущен на воду. Одновременно строились яхта, бот и две шлюпки.
Эта маленькая флотилия в мае 1669 года вышла в путь и за четыре месяца дошла до Астрахани, где задержалась в ожидании припасов и попала в руки Степана Разина. Суда были сожжены.
Новых попыток строить суда Москва не предпринимала, хотя необходимость их ясно осознавалась многими в России, как это показывает челобитная Важениных Петру.
Петр дал им просимое дозволение, и в 1700 году первая русская торговая корабельная верфь в Вавчуге, руководимая Бажениными, начала строить корабли. Построенные здесь суда охотно покупались англичанами и голландцами, что свидетельствует, конечно, о высоком их качестве. Вавчужская верфь Важениных, деятельность которых Петр ценил очень высоко, просуществовала вплоть до устройства корабельной верфи в Архангельске.
Федор Важенин умер в 1726 году в звании «экипаж-мейстера», которое было пожаловано ему Петром. Последние годы жизни он провел в Архангельске, где состоял выборным президентом городского магистрата.

Корабль «Орел» (XVII век).
На Вавчужской верфи подростком, а может быть и ребенком, бывал Михаил Васильевич Ломоносов. Он родился в Холмогорах и вырос на берегах Северной Двины, против самой Вавчуги. Здесь русские мастера строили, оснащали и спускали на воду корабли. Здесь в разнообразных мастерских рубили, пилили, строгали, изготовляя деревянные части кораблей, отливали, ковали металлические детали, шили паруса, варили смолу, плели канаты.
Это была виднейшая русская мануфактура, и не в одном Ломоносове она пробудила раннее любопытство и интерес к технике и науке.
Многие русские розмыслы и инженеры определили здесь свое призвание и обрели доверие к своим собственным силам.
Из Холмогор вышли первые русские академики – Ломоносов, Рычков – металлург и топограф, Крестинин и Фомин – историки и выдающиеся деятели народного образования. Это обстоятельство не случайно.
Поморье было одной из самых оживленных и культурных областей России в конце XVII и начале XVIII веков.
Население здесь не знало крепостного права, крестьяне пользовались самоуправлением.
Сюда, подобно Симеону Важенину, стекались предприимчивые русские люди с давних времен, да и сама суровая северная природа воспитывала в их потомстве смелость, настойчивость, независимость.
В Поморье существовала высокая техника. Есть указания, что механические устройства применялись в Поморье не только на пильных мельницах, но и в солеварении и даже в сельском хозяйстве, где употреблялись будто-бы «самодвигатели».
Отец Ломоносова имел промыслы на Мурманском берегу и плавал с сыном на судах собственной конструкции. Василий Дорофеевич Ломоносов впервые создал у нас особого типа мореходное судно, несколько напоминавшее галиот, – судно, неглубоко сидящее в воде, что позволяло ходить на нем и в море и по Двине. Этот тип судов впоследствии широко распространился у нас на Ладожском и Онежском озерах, на Неве и в Финском заливе.
Судостроительное искусство у северных поморов вообще стояло с незапамятных времен на большой высоте. Строившиеся здесь морские суда превосходили по своим судоходным качествам знаменитые каравеллы Христофора Колумба, как это убедительно показано известным советским исследователем и знатоком нашего Севера Героем Советского Союза капитаном дальнего плавания К. С. Бадигиным.
Так русские розмыслы и мастера, руководствуясь нуждами своей страны, искали свои собственные пути технического прогресса и на этих путях нередко находили не только оригинальные, но и передовые решения. инженерных проблем своего времени. В этом отношении полностью наследовали розмыслам и русская техника и русская наука, вступившие в новый период своего развития, когда, по образному выражению Пушкина, «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек».
Начало русской инженерии

Возникновение «инженерства»
В XVII веке рост производительных сил в стране и образование всероссийского рынка создали экономические предпосылки для усиления Русского государства.
Очень много способствовали созданию мощной Российской империи реформы Петра I. Они явились толчком к дальнейшему росту производительных сил страны, способствовали успешному развитию инженерной мысли в России.
Две отрасли русского инженерного дела – военное кораблестроение и полевая фортификация – достигли наивысшего расцвета в то время и оказали сильное влияние на развитие русской техники и науки.
Когда мы знакомимся с историей различных областей науки и техники, нас не удивляет, что русский флот оказался колыбелью радиотехники: ведь в беспроволочном телеграфировании, естественно, более всего нуждаются плавающие в безбрежном океане суда.
Понятно, почему русские моряки оказывали свое влияние на развитие таких наук, как метеорология, астрономия, математика, механика. Прямое дело ученых-кораблестроителей— разрабатывать теорию качки корабля или теорию его непотопляемости; наивно было бы задавать себе вопрос: почему это так.
Но когда при разысканиях по истории авиации приходится также просматривать страницы нашего «Морского сборника», когда, занимаясь вопросом о введении в России паровых машин, надо обращаться за материалом в Архив морского ведомства, невольно возникает мысль, что, наверное, не случайно на протяжении более чем двух веков русскому военно-морскому флоту суждено было играть огромную роль в истории не только русского, но и мирового инженерного искусства.
Русский флот на протяжении всей своей истории самым непосредственным образом оказывал влияние на развитие научной и технической культуры России.
Столь характерная, особенная творческая судьба русского военно-морского флота сложилась совершенно закономерно.
В древней Руси Господин Великий Новгород контролировал морские пути на Балтике, корабли Олега доходили до Царьграда, а Черное море называлось «Русским морем».
Уже этот флот оказывал огромное влияние на торгово-промышленную и культурную жизнь страны. Развитие судостроения способствовало прогрессу техники, создавало условия для воспитания в народе замечательных мастеров.
Разведка речных и морских путей положила начало землеведению. «Корабельные вожи», или лоцманы, с давних времен производили съемки и промеры, ставили «створные столбы» и прочие лоцманские знаки. «Тмутараканьский камень», «Борисовы камни» существуют и поныне. Афанасий Никитин за 25 лет до Васко да Гамы открывает сухопутный путь в Индию и дает отчет о своем путешествии не менее точный, чем отчеты последующих путешественников.
Великим морским экспедициям, организованным в XVIII веке, предшествовали экспедиции русских мореходов, таких, как Ребров, Дежнев, Атласов, которые с большим талантом и героизмом прокладывали пути к новым землям.
Без инженерно-технического опыта многочисленных русских «волоков» по историческому пути «из варяг в греки» и другим путям невозможно было бы проложить в 1702 году знаменитую «Осудареву дорогу» – путь от Белого моря к Онежскому озеру.
Созданный во время Петра регулярный русский военно-морской флот оказал влияние на всю хозяйственную и культурную жизнь страны.
С кораблестроением связывается не только постройка верфей в Воронеже, Таврове, Олонце, в Новой Ладоге, в Казани, но и возникновение многих железоделательных заводов и строительство новых городов, таких, как Петербург, Кронштадт, Петрозаводск, Петровск.
Особенное же значение в истории отечественной науки и техники приобрели учебные заведения и непосредственно вызванные к жизни нуждами флота такие учреждения, как, скажем, «вальдмейстерская контора» для заведования всеми заповедными лесами и управления ими, конторы по производству гидрографических и картографических работ, проводившихся при изучении морей, организация морских экспедиций, имевших целью исследование северных и южных морских путей в Тихий океан.
История русской метеорологии, астрономии, гидрогеографии, геодезии началась в этих военно-морских школах.
В связи с широким военно-морским строительством начинается в нашей стране усиленное применение различных машин – подъемных, землечерпательных, водоотливных и, наконец, пароатмосферных в доках Кронштадта. Применялись машины и «для делания канатов», механизированы были и иные работы. Механиков и машинистов выпускала знаменитая Навигацкая школа, в токарной мастерской которой учился выдающийся конструктор Андрей Нартов, позднее руководивший механическими мастерскими Академии наук.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.