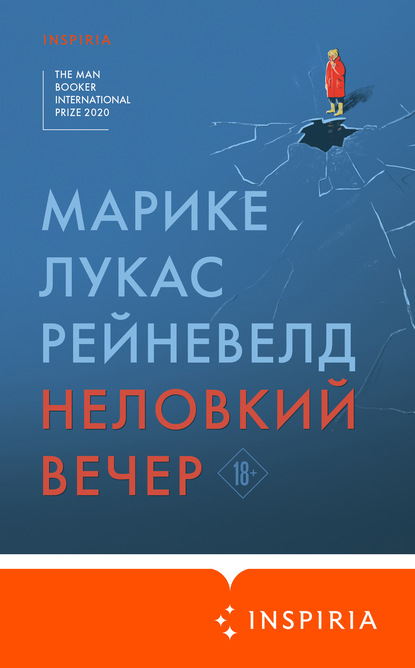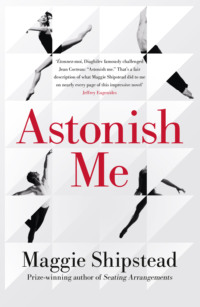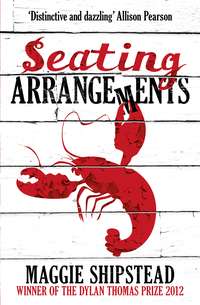Полная версия
Большой круг
– Хэдли! Джонс! Вы вместе? Хэдли, а где Оливер? Вы расстались?
На фото у меня слишком короткое платье. Я, осоловелая, с бесстыжим взглядом и полуулыбкой, цепляюсь за руку Джонса. Ну хоть, садясь в машину, удержала ноги вместе.
Они торжествующей толпой ехали за нами до дома Джонса, летели, взрываясь белым светом в моем окне, даже затемненном молочно-черным глянцем японской эмали. В машине, помню, Джонс языком играл моей серьгой, протягивая крючок через мочку, пока наконец хлипкая мешанина бриллиантов не повисла у него на улыбке – известный трюк на вечеринках, вроде как завязать узлом плодоножку вишни. Помню его дом, похожий на пещеру, с непременными огромными абстрактными картинами, все остальное белое, как небо в анекдоте про небо. Помню татуировку высоко на внутренней стороне бедра, настоятельный призыв крошечными буквами: «Люби меня».
Когда мы встретились на пробах к первому «Архангелу», Оливер был женат. Ему стукнуло двадцать, а его жене – сорок два, она являлась театральным директором из Лондона, рассекала в сапогах с заклепками и асимметричных пиджаках авангардных японских дизайнеров, благородная, как римский сенатор. Он не ушел от нее ко мне. Он вообще от нее не ушел. По словам Оливера, после их второй годовщины она заявила: ее страсть к нему лопнула, как сильно надутый шарик, уничтожив самое себя.
Я ничего не знала про свет, толком не знала, пока мы с Оливером впервые не появились на публике, взявшись за руки. Это было на премьере второго сезона. Мы тайком спали уже три месяца, но жутко страдали от шпионского всевластия и опровержения слухов. Он первым вышел из машины, и тысячи полоумных сучек за ограждением завопили, как будто их жгли живьем. Когда он обернулся, протянул мне руку и потом не отпустил ее, меня опалили грохот и свет. Я решила, будто сейчас испарюсь и ничего от меня не останется, кроме сгоревшей тени на красной дорожке. На фотографиях я пялюсь в объективы, как военный преступник перед трибуналом. Оливер улыбается, машет рукой. Свет – передатчик его красоты. В жизни он слишком красив, в кино его будто парализует. В пространстве же между прожектором и экраном он преобразуется в такое, на что почти нестерпимо смотреть.
Вообще-то звуки и свет на красной дорожке предназначались не совсем для нас. Благодаря нашей связи история показалась настоящей, а полоумные сучки так хотели настоящей истории, что совсем потеряли рассудок. Наиболее радикальную секту отступников составили авторы экстремального эротического фанфика. Они бродили по туннелям интернета, выкапывая лабиринты, где могли откладывать свои желания и выкармливать их, как личинки.
Они крушили все ради себя и даже этого не знали. Не втыкались, что им не понравятся книги, которые дадут именно то, чего они хотят. Люди любят истории, оставляющие некое разочарование, не дающие полного удовлетворения. А сучки хотели, чтобы «Архангел» был скроен по их самым тайным прихотям, но в то же время чтобы до него никто не дотрагивался. Когда мы меняли в фильме какую-нибудь мелочь, они тут же выходили на связь. «Дом Лизвет небесно-голубой, а не сине-зеленый, бараны». Или: «Когда Гэбриел и Катерина целуются в первый раз, на нем шапка белого медведя, но не СЕРАЯ, а БЕЛАЯ, и вы должны это ЗНАТЬ, потому что так В КНИГЕ».
Мы с Оливером, конечно, тоже были ненасытны. Наши герои жили в нас. Мы думали, что сможем, как на восходящих потоках, воспарить на всех сыгранных нами томлениях и страстях. Сойдясь, мы чувствовали себя щедрыми, будто имели некие обязательства перед историей, рассказываемой в фильме, и исполняли их. Но полоумные сучки писали и о нас. О нас, людях, Хэдли Бэкстер и Оливере Трэпмене, лос-анджелесских актерах, а не о Катерине и Гэбриеле, порожденных воображением Гвендолин и живущих в несуществующем царстве Архангела.
Как-то мы решили прочесть фанфик про себя, просто из любопытства. Сначала смеялись над опечатками, потом затихли. Пока мы читали липко-потную фантазию о том, как трахнулись в первый раз, я сидела у Оливера на коленях. «Я хочу только тебя», – сказал мне Оливер в той истории, как Гэбриел говорит Катерине тысячу раз. «Навсегда». Но затем движением, которое шокировало бы милого вежливого Гэбриела, Оливер из фанфика задрал «дорогое платье от дизайнера» и всунул мне свой «пульсирующий член». «Давай, – стонала Хэдли. – О да. Ты такой пылкий, такой знаменитый, и я очень-очень тебя любю».
Оливер закрыл компьютер. За окном появилась колибри, привлеченная утренним светом, разгоравшимся на стене моего дома. Она зависла и пристально на нас посмотрела, радужная грудка замерла в пространстве, крылышки от скорости почти невидимы. Мы находились на оживленном перекрестке, где пересекались реальности. Чувствовали небесный ветер.
«Я очень тебя любю», – начали мы говорить друг другу.
«Мы» надежнее, чем «я», когда ты там, внутри, но это такая неустойчивая, непрочная штука, в любой момент готовая тебя отшвырнуть и в конечном счете бросить на милость «я». Став «мы», ты становишься и «они», мишенью, которую надо отследить и сфоткать. Наградой. Каменоломней, то есть тем, что надо сторожить. А еще шахтой. Нас вдвоем отслеживали и фоткали в Нью-Йорке, Париже, Санкт-Петербурге, Кабо, Кауаи, на яхте недалеко от Ибицы, на вечеринках после катания на лыжах в Гштаде, в продуктовом магазине, на заправке, с похмелья в бургерной «Умами». Они бурили нас на предмет рассказов, пикантных подробностей, правды и лжи, лжи и правды, вопросов моды, вопросов фитнеса, диеты, укладки волос, отношений, ну давай же, про детей, просто что-нибудь. Они оценивали наш прикид, ставили очки нашим фигурам на пляже, заявляли, что я беременна близнецами, что – пардон, уточняю – я хочу забеременеть близнецами, что я нахожусь в центре реабилитации, что мы помолвлены, что наша помолвка расторгнута. Они хотели знать, что у меня в сумочке, в туалете, в списке необходимой парфюмерии и косметики. Они сдирали с нас слой за слоем и превратили во что-то совсем уже выпотрошенное и пустое.
Выходя с Джонсом из клуба, я, кажется, хотела сделать больно именно полоумным сучкам. В пьяном величии мне представлялось, что я в силах сокрушить их миры. Но, как предсказал бы любой болван, сучки перенесли травму очень легко. Я, разумеется, разбомбила собственный песочный замок, вытоптав его в миленький такой жесткий, плоский, пустой пляж.
Слоган первого фильма был «Раз полюбил, это навсегда». Четвертого, моего последнего, – «Раз упал, это навсегда». На постере отфотошопленный мрачный Оливер и отфотошопленная пухлогубая я наложены на красивый, но жутковатый цифровой город, силуэт которого из куполов цвета золотистого лука припорошен снегом. Каким будет слоган шестого фильма? Десятого? «Раз помер, это, ради бога, навсегда»?
Гвендолин все пишет. На данный момент вышло семь книг. Но даже до того, как меня вышвырнули, мы с Оливером старели быстрее, чем наши герои. Мы не могли быть ими вечно. Точнее, я не могла оставаться Катериной. Всем прекрасно известно: мужчины не стареют, по крайней мере стареют не так, что это имеет значение. Сейчас они снимают пятый. Девчонка, заменившая меня, – подросток.
Гадость в том, что первый раз мы с Оливером действительно трахнулись в машине. Но не на премьере, а после вручения премии детской аудитории. Первый фильм «Архангела» получил все возможные детские награды. Существует ли ложь больше той, что «я хочу только тебя»? Или «навсегда»? Кто первым сказал, что ничто не длится всегда? Кто первым заметил?
ВТОРОЕНаутро, после того как я уехала с Джонсом, из моего дома убралась команда Оливера. Мои телохранитель и помощница рассказали, что ночью, когда в сети появились первые фотографии, пришли его телохранитель и помощник и все собрали. Уже через пять минут после моего прихода моя агент Шивон позвонила разведать ситуацию и вежливо поинтересоваться, чем я думала. После обеда она перезвонила сообщить неполный список недовольных. Ее присутствие в списке подразумевалось само собой, хотя она и не орала, как могла на первых порах, когда мы обе теряли самообладание, если мне приспичивало сняться в рекламе миниатюрной пиццы для микроволновки. В прошлом году я заработала тридцать два миллиона, а она получила десять процентов. Если вы так же знамениты, как я, то вас можно сравнить с гигантским, плавно скользящим морским существом, экосистемой в себе, питающей тем, что застревает у вас в зубах, колонию мелкой рыбешки.
Алексей Янг, агент Оливера, с кем я спала дважды, тайком, и, может быть, все еще была в него влюблена, сообщил Шивон, что Оливер пал духом и уничтожен. Шивон передала мне. Недовольство выражала студия в целом и ее глава Гавен Дюпре в частности, которому я один раз отсосала, и не потому что хотела. Недовольство выражали инвесторы, Гвендолин-автор-книг-«Архангела», режиссер четвертого фильма, находившегося в монтаже, а также парень, намеченный на роль режиссера пятого.
– Студия – сказала Шивон, – беспокоится, как бы люди – фанаты – не распереживались. Студия боится, что ты разрушила романтическую иллюзию. Ведь очевидно, весь проект зиждется на идее идеальной любви, и мысль…
– Я правда не виновата, если люди так глупы, что не различают реальность и вымысел, – перебила я.
– Да я-то согласна, теоретически, но полагаю, тут можно возразить, что на всех нас лежит ответственность и мы должны защищать наш бренд. Не возьмусь утверждать, будто ты не отвлекла всеобщее внимание от фильма.
Я промолчала.
– Ты уже говорила с Оливером? – спросила Шивон.
– Нет. Кстати, он тоже мне изменял. Я тебе рассказывала.
– Но настоящей утечки не случилось ни разу. Если дерево изменяет кому-то в лесу и никто не фотографирует… Послушай, я не осуждаю, но ты могла бы вести себя потише. Выражусь иначе. Ты не могла повести себя громче. В пиаре такое равнозначно взрыву террориста-смертника. – Она помолчала. – Или просто неудержимый порыв?
– А разве вообще все – не неудержимый порыв?
Шивон не ответила.
– Ты хочешь знать почему, – сказала я. – Не знаю почему. Джонс мудак.
– Только не говори прессе. Ладно. В общем, что сделано, то сделано. Все хотят последней информации, каких-то деталей, которые позволят понять, к чему вы склоняетесь, чтобы мы начали раскручивать.
– Ты имеешь в виду, сойдемся ли мы опять с Оливером?
– Да.
Хохот вырвался у меня, как будто его кто-то с силой выдавил.
– Ладно, – помялась Шивон. – Хорошо. И последнее. Гвендолин так разволновалась, что студия еще больше разволновалась из-за нее.
– Да пошла она. Серьезно.
– Она очень печется о своем творении.
– Я не ее творение. Она не Бог.
– Нет, но переданные ей права дали тебе, мне и множеству людей немало денег. Она просто хочет встретиться. Гавен Дюпре лично просил тебя встретиться с ней и успокоить.
– На этой неделе я занята.
– Нет, не занята.
Я отсоединилась. Смартфоновскому демаршу не хватило весомости, я просто ткнула пальцем в изображение кнопки. Какое-то время я лежала на кровати, курила травку и смотрела реалити-шоу, где тетки с подтянутыми лицами в бандажных платьях Эрве Леже, расплескивая вокруг мартини, говорили друг другу гадости. Некоторые проделали над собой такую работу, что вместо слов у них получалась каша, так как они не могли шевелить губами. Со сверхъестественно круглыми глазами и съежившимися мордочками они напоминали кошек, превращенных недоучившимся волшебником в человеческие существа.
Я задумалась, а могу ли провести остаток дней, валяясь в своем доме и пялясь в свой телевизор. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы вьюнок нарос на окна и запечатал меня внутри.
Меня вот-вот должны были утвердить на «Архангела», когда Гавен Дюпре во время нашей встречи за завтраком поставил чашку с кофе и очень спокойно, вежливо попросил меня встать и снять одежду.
Я удивилась на полсекунды, а потом смутилась, что оказалась такой идиоткой, чтобы удивляться. Мы находились одни в гостиничном номере в Беверли-Хиллз, сидели напротив друг друга за столиком, где на белой скатерти стояли серебряный кофейный сервиз и многоярусная подставка с миниатюрными кишами, пирожными и круассанами, которыми Гавен все пичкал меня, прежде чем попросил раздеться.
– Обещаю, от одного маленького круассана ты не растолстеешь, – уговаривал он. – Посмотри, какой он крошечный. Просто попробуй. Вкус не повредит.
Не то что я раньше не сталкивалась с подонками. Они встречаются на любых съемках, в каждом начальствующем звене по цепочке, их будто делегирует какой-то местный союз подонков. Но ставки никогда не поднимались так высоко, даже близко. «Это совсем другое дело», – решили мы с Шивон, назначив встречу. Я так и не поняла, знала ли она, на что меня толкает. Она упомянула, и не раз: Гавен женат и у него дочери примерно моего возраста – тогда восемнадцать.
На вид он был безобидным, довольно тусклым, лет пятидесяти, с полными бледными губами. Очки в проволочной оправе и платочки в нагрудном кармане, грамотно сочетавшиеся с галстуками.
– Мне нужно посмотреть на тебя, – сказал он, и я решила, что такова профессиональная необходимость, не личная.
Я никогда не рассказывала Шивон, не надо ей знать, что я правда через это прошла. Несколько месяцев назад умер Митч, и даже, хотя он никогда толком не «был в курсе» и не «оберегал», я испытывала новое, тяжелое чувство одиночества. Я даже не колебалась. Стояла голая перед Гавеном, по его просьбе чуть развернулась, а когда он достал свой хрен и попросил меня, пожалуйста, взять в рот, взяла.
* * *Через день после Джонса Коэна я лежала в своем бассейне и смотрела на кружащего грифа. Небо Лос-Анджелеса ими полно, иногда огромные вертящиеся торнадо из грифов громоздятся в облака, только обычно никто не замечает. Я несколько удивилась, даже обиделась, что нигде не было выслеживающих меня вертолетов. Интересно, а папарацци разрешено использовать маленькие любительские дроны? Наверное, нет, поскольку в противном случае они бы их использовали. У них на гербе должно быть написано: «Можем – сделаем».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Последняя запись из «Море, небо, а между ними птицы. Утраченный журнал Мэриен Грейвз». Нью-Йорк, Д. Уэнслес и сыновья, 1959.
2
Долина Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, где располагаются многие известные киностудии. – Прим. пер.
3
Тюрьма строгого режима недалеко от Нью-Йорка. – Прим. пер.