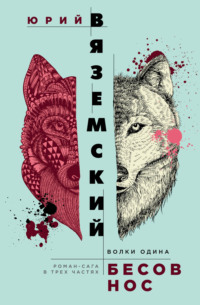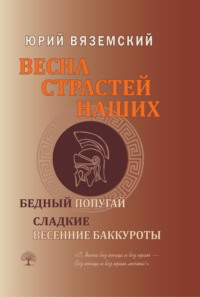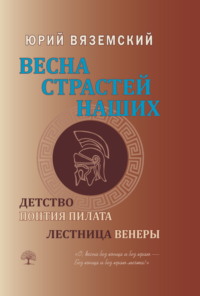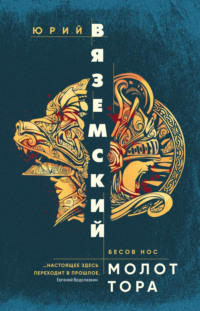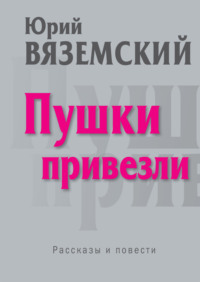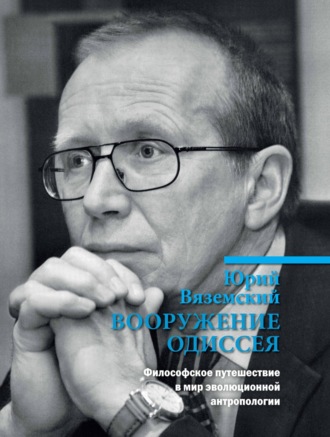
Полная версия
Вооружение Одиссея. Философское путешествие в мир эволюционной антропологии
«Все же главным предметом нашей гордости – абстрактным мышлением – они, по-видимому, не обладают», – пишет Владимир Бердников27. Но с ним не соглашаются многие исследователи обезьяннего интеллекта28. Даже специалисты по крысам говорят «о способности крыс к элементарному абстрагированию»29. И как провести четкую, категориальную границу между «элементарным абстрагированием» и «абстрактным мышлением»?
То есть лично я прекрасно чувствую, что человек выше животного. Вот ведь стою и смотрю в бездну. Но тут, по закону Ницше, бездна начинает смотреть в меня, и я постепенно утрачиваю научную вестибуляцию.
§ 41Тем более что мне особенно тяжело с нравственным самоутверждением перед лицом истинно звериного. Чем я хуже ящерицы, я понимаю и уже, помнится, писал. Но чем волк, который жену не бросает, детей своих не избивает, соперника не убивает и тем более не пытает, не превращает в раба, – чем он злее человека? Оленей, конечно, жрет в сыром виде и лапы перед жратвой не помыв, но, во-первых, ловит главным образом тех, которые для оленьей популяции никакого интереса не представляют и, скорее, угрожают ей (то есть больных, заразных, генетически ущербных), а во-вторых, случись этому свирепому хищнику поймать поросенка, он тут же беднягу зарежет и не станет часами бить его железными прутьями, чтобы сосудики лопнули и кровушка мясцо напоила, сальце напитала – еще живому поросеночку обязательно надо нежно и умеючи кровушку пустить, иначе ветчинка потом не будет умилительно розовой, упоительно тающей во рту… Не нравится вам пример из русской кулинарной культуры, так отправляйтесь во Вьетнам, где почти так же готовят любимейшее национальное кушанье из собак; где у живых еще обезьян ложкой вычерпывают… Нет, хватит! Не могу больше описывать преимущества человеческой культуры!..
§ 42Я подвожу итог: несмотря на то, что философия давно уже обратила внимание на животных и хотя бы интуитивно ощутила тесную и сложную взаимосвязь животного мира и человечества, многие фундаментальные и принципиальные вопросы до сих пор остаются без ответа. И не потому, что вопросы эти преждевременны для нынешней стадии наших знаний. Вернее, они были преждевременны, когда в XVIII и XIX веках великие философы созидали свои системы: зоология-девочка мало могла им помочь и инфантильной своей опрометчивостью, детским фантазированием часто лишь вводила в заблуждение. «На историю можно смотреть как на продолжение зоологии», – предложил Шопенгауэр30, но только лишь предложил, ибо, повторюсь, аналитическая зоология тогда только делала свои первые шаги и те – под стол философии.
А когда в XX веке зоология вступила в пору целеустремленной и творческой юности, тогда уже философы почти перестали строить всеобъемлющие системы. В результате сравнительное изучение животных и человека опять выпало из поля зрения философии: можно по пальцам пересчитать тех действительно философствующих, которые в том или ином объеме интересуются зоологией. Ученые, сделавшие значительные открытия в исследовании животного мира, не умеют или боятся возвыситься до метафизического их осмысления (даже такой талант, как Конрад Лоренц, философствует с опаской и часто непоследовательно).
Вот я и вынужден предложить вам отправиться в преисподнюю человеческую, чтобы, пройдя ее снизу вверх, попытаться затем перекинуть философский мост к человечеству и его истории.
§ 43Давайте изучим тот гигантский подземный склон, на который опираются, который продолжают и наша физиология, и наша психика, и наше поведение. Если мы хотим получить более или менее точное представление о человеческой культуре, то, как я понимаю, минимум небезынтересно, а максимум – совершенно необходимо сперва изучить то, что этой культуре предшествует и даже противостоит (лишь в одном согласны все так называемые культурологи: Культура – это не Природа, это, по сути, единственное отрицательное определение культуры, под которым они все подпишутся). Что предшествует? В чем и как противостоит? Без ответа на эти вопросы я лично не могу философски рассуждать о человеке.
А потом там, в бездне, разумеется, темно, но мир там примитивнее и элементарнее. Изучать поведение, скажем, крысиного вожака намного легче, чем исследовать поведение Наполеона. Намного проще научно рассматривать популяцию муравьев, чем анализировать цивилизацию Древнего Египта. Тут, полагаю, никто со мной спорить не должен.
То есть я предлагаю последовать совету опытных альпинистов и сперва попрактиковаться на более простой и в каком-то смысле подготовительной горке. Я обещаю, что в ходе этой нашей тренировки нам удастся освоить некоторые исследовательские методики, приобрести антропологические навыки и, надеюсь, обнаружить некоторые закономерности, которые потом нам весьма пригодятся, облегчат движение и усилят точность и зоркость взгляда – тогда, когда мы приступим наконец к исследованию человека и человечества.
IX
Согласны вы на такое предварительное путешествие? Готовы пойти со мной? Ну, тогда я вас еще раз обману.
§ 44О животных как-нибудь в другой раз.
А сейчас мы с вами должны предварительно договориться: как будем путешествовать? по каким правилам? на каких основаниях будем двигаться? каким снаряжением и как будем экипированы? и почему этими средствами, методиками, приемами будем пользоваться, а не другими, предлагаемыми совокупным человеческим знанием?
…а тебе на дорогуПусть приготовят съестное, пускай им наполнят сосуды;Пусть и в амфоры вина нацедят, и муки, мореходцаСнеди питательной, в кожаных, плотных, мехах приготовят.Тою порой я гребцов наберу; кораблей же в Итаке,Морем объятой, немало и новых и старых; меж нимиЛучший я выберу сам…Так говорила Афина, Зевесова дочь, Телемаху31.Все это нам надо заранее приготовить, хорошенько вооружиться.
Иначе, уверяю вас, никуда мы с вами не взойдем, и, даже если нас на вертолете поднимут и мягко высадят на заказанной высоте, ничего мы там и тем более оттуда не разглядим.
§ 45Подозреваю, что у нас с вами объявится очень много критиков.
Но их я беру на себя.
Кстати сказать, почему-то мне кажется, что истинно философствующие, те, которые философией дышат, а не кормятся, посредством ее прежде всего самоопровергаются, а не самоутверждаются, они-то нас поймут и даже поддержат. А для всякого рода филодоксов и филогномов у меня заранее припасен ответ внучатого ученика Сократа – Диогена Синопского. Однажды кто-то сказал ему: «Ты неуч, а еще философствуешь». А Диоген на это ответил: «Даже подделываться под мудрость – уже философия»32.
О своих потенциальных научных критиках я уже говорил, замечаний их не слышал, но уже знаю наизусть. И сразу всем им отвечаю: вы не ругайте нас за ошибки, вы их исправьте, а я вам за то буду благодарен. Наука от наших ошибок не пострадает, но она всегда страдала от нерешительности или нежелания совершить продуктивное аналитическое обобщение.
Настоящие художники, скорее всего, просто не обратят на нас внимания. Но разные искусствоведы, литературоведы и прочие «веды», которых скульптор Василий Симонов называл «искусствоедалш», те непременно вцепятся. Однако я призываю проявить к ним милосердие, учитывая, что люди они не очень счастливые: серьезные ученые их за своих не считают и всячески гонят от себя, а художники, музыканты, писатели, поэты – сами знаете, как они к ним относятся, к такого рода наставникам и критикам.
Непременно накинутся богословы. Но я вас сразу успокою: те, которые будут нам досаждать, богословы незадачливые и в лучшем случае подавившие в себе живое и свободное мистическое чувство, а в худшем – ни черта не смыслящие в религии, вернее, зрящие в ней лишь страх, грех и сатану. Сколько раз покорителю Эвереста, Норгэю Тенцингу говорили: не ходи в горы, там демоны, чудовища, драконы, карающие всякого, кто осмелится, дерзнет, возомнит о себе. Но великий шерп не послушался и, стоя на вершине мира, молился богам, благодаря их за счастье, за красоту, за свободу. «Туджи чей» – так принято говорить у шерпов – «благодарю».
§ 46Давайте и мы скажем перед восхождением: «Туджи чей».
А я, с вашего позволения, произнесу молитву, с которой начинает каждый день верующий православный.
«К Тебе, Владыко Человеколюбие, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения…»
Последнюю часть молитвы я произнес про себя, ибо так, говорят, действеннее.
А теперь в путь, в путь!
Туджи чей!
Господи благослови!
Вооружение одиссея, или Ормологическое введение в эволюционную антропологию
Первая книга из цикла «Девятимерный человек»
Представление о потребности как о единственном первоисточнике активности поведения разделяется далеко не всеми авторами.
Павел СимоновНе из сущности энергия, а из энергии познается бытие сущности, но не познается, что она такое.
Святой Григорий ПаламаКто ты? Откуда? Каких ты родителей? Где обитаешь?Я в изумленье; питья моего ты отведал и не был Им превращен; а доселе никто не избег чародейства,Даже и тот, кто, не пив, лишь губами к питью прикасался.Сердце железное бьется в груди у тебя; и, конечно, Ты Одиссей…ГомерЧасть первая
Остров Огигия

Вы помните, у Гомера? Изумительно красивый остров. Густые луга, полные фиалок и сочных злаков. Тенистые рощи тополей, сладко пахнущих кипарисов, загадочные заросли ольхи, в ветвях которой гнездятся рогатые совы, кобчики, бакланы. Четыре источника журчат светлыми струями. Грот, увитый виноградной лозой с тяжелыми пышными гроздями. Сам бог Гермес удивился эдакой красоте, ибо:
…Когда бы в то место зашел и бессмертныйБог – изумился, и радость в его бы проникнула сердце1.А в гроте том – прекрасная нимфа, «богиня богинь», дочь небо-держателя Атланта, а некоторые говорят – самого солнечного бога Гелиоса. Днем в окружении служанок она в прозрачном серебряном одеянии сидит у ткацкого станка и, работая над узорною тканью, оглашает окрестности голосом звонко-приятным. А ночью горячо и нежно любит Одиссея, обещая дать ему ни много ни мало – бессмертие и вечноцветущую младость!
Что ж Одиссей? Как описать его радость, то блаженство, которое он испытывает в объятиях прекраснейшей богини, в предвкушении вечной жизни и вечной молодости?
Никак не надо описывать, так как никакой радости и никакого блаженства нет:
хладныйСердцем к богине, с ней ночи свои он делил принужденноВ гроте глубоком, желанью ее непокорный желаньем2.Днем же:
Он одиноко сидел на утесистом бреге и плакал;Горем и вздохами душу питая, там дни проводил он,Взор, помраченный слезами, вперив в пустынное море3.Что он, не понимает своего счастья? не ценит несравненной красоты божественного существа, отдавшего ему тело и душу? Ценит и понимает. Знаю и сам, говорит он, что не можно
Смертной жене с вечно юной бессмертной богиней ни стройнымСтаном своим, ни лица своего красотою равняться…4Не нужно ему такое счастье, такое блаженство и такое бессмертие. Не хочет он их, а посему они для него – несчастье, вечная мука и вечная смерть.
…утекала медлительно капля за каплейЖизнь для него в непрестанной тоске по отчизне5.Когда из человека медлительно и тоскливо утекает жизнь, нужно ли ему бессмертие?
Все я, однако, всечасно крушась и печалясь, желаюДом свой увидеть и сладостный день возвращения встретить6.Когда человеку так всечасно и сокрушительно хочется увидеть любимую жену и милого сына, что может предложить ему взамен даже самая нежная и самая прекрасная из богинь? Она, прекрасно-наивная, пугает его «злыми тревогами» возвратного пути. Но, Боже мой, какая глупость пытаться запугать Одиссея.
Если же кто из богов мне пошлет потопление в темнойБездне, я выдержу то отверделою в бедствиях грудью:Много встречал я напастей, немало трудов перенес яВ море и битвах, пусть будет и ныне со мной, что угодно Дню…7Человек, страстно желающий видеть «хоть дым, от родных берегов восходящий», смерти не боится – «смерти единой он молит8.
Огигия – остров потребностей. Семь лет «богиня богинь» Калипсо пыталась истребить в Одиссее самую неудовлетворенную и самую мучительную для него потребность. Тщетно. С каждым годом потребность видеть Пенелопу лишь усиливалась и возрастала.
Глава первая
Пенелопа
Открытия, совершенные Павлом Симоновым в области физиологии и психофизиологии, настолько многообразны, глубоки и продуктивны, что их совокупность я не могу назвать иначе, как системой, Системой Симонова. Сам Симонов предпочитает именовать результаты своего научного творчества чаще «подходом», реже – «теорией», крайне редко – «учением». К этому его побуждают, как я понимаю, во-первых, природная скромность, а во-вторых, нежелание даже в самоопределении выходить за рамки чисто научного исследования. Но далеко не все наши желания выполнимы, наши опасения часто сбываются. То есть я хочу сказать, что Симонов перешагнул границы чистой науки и вступил в открытое поле метафизики. Философом он не стал, не имея для этого ни желания, ни соответствующего философского образования. Но уже давно его научным подходом интересуются главным образом именно философы. Его психофизиологическая теория фактически разделилась на несколько самостоятельных, но органически взаимосвязанных теоретических построений (теория эмоций, теория потребностей, теория психических структур, теория творчества). И можно все это, разумеется, назвать Учением, но не хочется: во-первых, потому что слово это в отечественной научной практике приобрело дурное послевкусие («учение Лысенко», «марксистско-ленинское учение» и т. п.); а во-вторых, когда исследовательские подходы привели к формированию теорий, а эти теории составили некое научное целое, системно, диалектически и исторически описывающее и объясняющее внутренний мир человека и животного, то это нечто – разве оно не система? Если одному из десятков методов,
существующих в театральном искусстве, мы присвоили наименование «система Станиславского», то творение Симонова должно быть по меньшей мере Сверхсистемой.
I
§ 3В системе Симонова нас в первую очередь должна заинтересовать теория потребностей.
Симонов положил потребность во главу угла, объявив ее движителем всякого индивидуального и коллективного поведения (человека и животного), регулятором эволюции, координатором истории и первоисточником творческого процесса как такового. Симонов показал, что в мире живых организмов нет ничего свободного или независимого от потребности, ибо «подобная «независимость» действия от потребности – лишь кажущаяся, поскольку действие продолжает побуждаться трансформированной, производной потребностью — вторичной, третичной и подобной по отношению к исходной»1.
Назвав потребность «единственным первоисточником активности поведения»2, Симонов дал ей научное определение. Потребность, говорит он, есть «специфическая (сущностная) сила живых организмов, обеспечивающая их связь с внешней средой для самосохранения и саморазвития… Сохранение и развитие человека – проявления этой силы…»3. В другом месте потребности объявляются «источником и побудителем активного освоения им (человеком. – Ю. В.) окружающего мира и познания самого себя»4.
Соответственно, «поведение — такая форма жизнедеятельности человека и животных, которая изменяет вероятность и продолжительность контакта с внешним объектом, способным удовлетворить имеющуюся у организма потребность»5.
Насколько хороши симоновские определения с философской точки зрения – другой вопрос, к которому мы еще не раз будем возвращаться. Но сейчас снимем шляпу, господа: впервые ученый определил то, что до него либо не желали, либо не умели, либо боялись определять другие!
§ 4По Гегелю, все действительное – разумно. По Шопенгауэру, все действительное – неразумно. А как быть с Потребностью?
Симонов и здесь внес уточнение. Большинство наших потребностей не осознается нами, но некоторые из бездны человеческого естества возвышаются до освещенного круга сознания и там становятся осознаваемыми мотивациями.
Павел Симонов предлагает нам трехуровневую структуру психики. Это уже другая теория, теория психических структур. Но в системе Симонова она настолько тесно сопряжена с теорией потребностей, что, говоря о потребностях, надо постоянно иметь в виду и три психические структуры.
«Исторически случилось так, – замечает Симонов, – что неосознаваемое психическое (или бессознательное, досознательное, предсознательное и т. п.) превратилось в своеобразный «большой мешок», куда без разбора помещают все, что не осознается: от неосознаваемых субъектом влияний циркулирующих в крови гормонов на его психику до ответственнейших этапов научного и художественного творчества6. Чтобы устранить эту антропологическую ошибку, Симонов предлагает различать две очевидно не-сознательные психические структуры: подсознание и сверхсознание.
К сфере подсознания Симонов относит все то, что «было осознаваемым или может стать осознаваемым в определенных условиях», а именно: (1) хорошо автоматизированные навыки, (2) глубоко усвоенные социальные нормы, (3) те проявления интуиции, которые не связаны с порождением новой информации, но предполагают лишь использование ранее накопленного опыта, (4) результаты имитационного поведения7. К содержанию подсознания Симонов иногда относит еще и «мотивационные конфликты, тягостные для субъектов»8.
К сверхсознанию, которое Симонов называет иногда «творческой интуицией», относятся первоначальные этапы всякого творчества: порождение гипотез, догадок, творческих озарений. «Функционирование сверхсознания, порождающего новую, ранее не существовавшую информацию путем рекомбинации следов полученных извне впечатлений, не контролируется осознанным волевым усилием: на суд сознания подаются только результаты этой деятельности»9.
Функции подсознания и сверхсознания, подчеркивает Симонов, принципиально различны; это различие возникло в процессе длительной эволюции10. Подсознание защищает сознание от лишней работы и непереносимых нагрузок. «Подсознание всегда стоит на страже добытого и хорошо усвоенного, будь то автоматизированный навык или социальная норма. Консерватизм подсознания – одна из наиболее характерных черт. Благодаря подсознанию индивидуально усвоенное (условно-рефлекторное) приобретает императивность и жесткость, присущие безусловным рефлексам»11. В свою очередь, сверхсознание, «неосознаваемость творческой интуиции есть защита от преждевременного вмешательства сознания, от чрезмерного давления накопленного опыта. Не будь этой защиты, здравый смысл, очевидность непосредственно наблюдаемого, догматизм прочно усвоенных норм душили бы «гадкого утенка» (смелую гипотезу, оригинальный замысел и т. п.) в момент его зарождения, не дав ему превратиться в прекрасного лебедя будущих открытий»12. Порождение нового и преодоление существующих и общепринятых норм – вот две главные функции сверхсознания, соответственно положительная и отрицательная13.
Различно, по Симонову, и потребностное «тяготение» двух несознательных структур. «Подсознание тяготеет к витальным потребностям, к инстинктивному поведению. Это особенно ярко проявляется в экстремальных ситуациях угрозы индивидуальному и видовому (родительский инстинкт) существованию…» Сверхсознание же, «по-видимому, монопольно принадлежит идеальным потребностям познания и преобразования окружающего мира». Оно «участвует в поиске средств удовлетворения витальных и социальных потребностей только в том случае, если там присутствуют элементы идеального»14.
Расширяя за счет сверхсознания сферу не-сознательного психического, Симонов, однако, ничуть не умаляет важность человеческого сознания. Да, сверхсознание порождает гипотезы, но «за сознанием остается функция отбора этих гипотез путем их логического анализа и с помощью критерия практики в широком смысле слова»15. Именно сознание формулирует проблемы, ставит перед сверхсознанием исследовательские задачи16.
В симоновской трехструктурной психической модели сознание играет верховную роль, но лидерство его мгновенно тускнеет, едва на сцену бытия выходит ее величество Потребность. «Не сознание само по себе, – предупреждает Симонов, – и не воля сама по себе определяют тот или иной поступок, а их способность усилить или ослабить ту или иную из конкурирующих потребностей»17. В еще большей зависимости от потребностей находится сверхсознание, которое, как считает Симонов, работает лишь на доминирующую потребность18.
Запомним это, дорогой читатель: сознание и – более широко – психика лишь обслуживают наши потребности, обеспечивая их удовлетворение. «Cogito ergo sum» – это у Декарта. По Симонову: «Volo ergo sum, et cogito, et sentio».
§ 5С двумя симоновскими теориями – потребностной и структурно-психической – теснейшим образом сочетается еще одна, теория эмоций. Именно с нее Павел Симонов начал свой метафизический путь, то есть шагнул за пределы экспериментальной и теоретической физиологии и вступил в сферу аналитической психофизиологии, широких и продуктивных антропологических обобщений19.
Эмоция, по Симонову, есть функция актуальной потребности и вероятности ее удовлетворения20. Будучи функцией, она не может быть самой потребностью. Эмоция не может быть и собственно психической информацией; оценку вероятности, разъясняет Симонов, субъект производит на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта, непроизвольно сопоставляя информацию о средствах, времени, ресурсах, прогностически необходимых для достижения цели (удовлетворения потребности), с информацией, поступившей в данный момент21. Нельзя отождествлять эмоцию и с безусловным рефлексом, «поскольку один и тот же двигательный стереотип может сопровождаться вовлечением мозговых механизмов эмоций, а может осуществляться и без них»22.
Эмоции бывают положительными и отрицательными. Первые возникают «в ситуации избытка прагматической информации по сравнению с ранее существовавшим прогнозом (при «мгновенном срезе») или в ситуации возрастания вероятности достижения цели (если генез эмоции рассматривается в его динамике)»23. Отрицательные эмоции представляют реакцию на дефицит информации или на уменьшение вероятности достижения цели24.
Полемизируя со сторонниками так называемой «биологической теории эмоций», Симонов подчеркивает, что функция эмоций не сводится к простому сигнализированию о воздействиях, полезных или вредных для организма25. Эмоции играют, по меньшей мере, три роли:
1. Они, говоря физиологическим языком, подкрепляют поведение, направляя его в сторону удовлетворения актуальной потребности, которую возможно удовлетворить. «Возрастание вероятности достижения цели в результате поступления новой информации порождает положительные эмоции, активно максимизируемые субъектом с целью их усиления, продлевания, повторения. Падение вероятности по сравнению с ранее имевшимся прогнозом ведет к отрицательным эмоциям, которые субъект стремится минимизировать, т. е. ослабить, прервать, предотвратить»26.
2. В жизнедеятельности организмов эмоции играют роль субъективной системы ценностей. Здесь речь идет уже не о подкреплении, а о сопоставлении разных поведенческих ценностей (Симонов именует эту функцию «переключающей»). «Казалось бы, – пишет Симонов, – ориентация поведения на первоочередное удовлетворение той или иной потребности могла осуществиться путем непосредственного сопоставления силы (величины) этих потребностей, но в таком случае конкуренция мотивов оказалась бы изолированной от условий окружающей среды. Вот почему конкурируют не потребности, а порождаемые этими потребностями эмоции, которые… зависят не от одной лишь потребности, но и от вероятности (возможности) ее удовлетворения»27. Эмоции играют роль «своеобразной «валюты» мозга, универсальной меры ценностей, сами по себе этой ценностью не обладая. Здесь наблюдается аналогия с функцией денег»28. Потребности и мотивы «вступают в конкурентную борьбу «в доспехах» положительных или отрицательных эмоций»29.
3. Эмоции часто играют компенсаторную роль. Примером компенсаторной функции эмоций Симонов считает подражательное поведение, «характерное для эмоционально возбужденного мозга». «Когда субъект не располагает данными или временем для самостоятельного и вполне обоснованного решения, ему остается положиться на пример других членов группы»30.
Подкрепляющая, переключающая и компенсаторная (замещающая) – таковы, по Симонову, три основные функции эмоций. Но лично я в теории эмоций усматриваю еще две функции, представляющие для нас, как мне кажется, не меньший интерес. Условно пока назову их функцией эволюционной и функцией обратной связи.