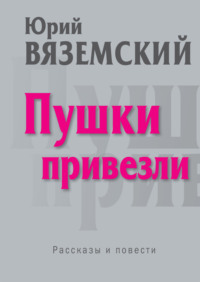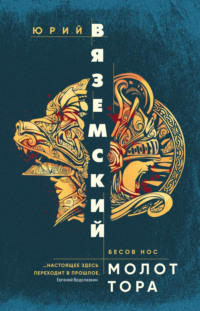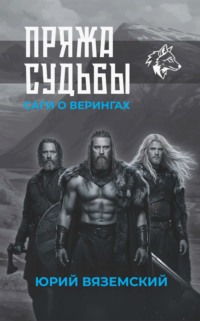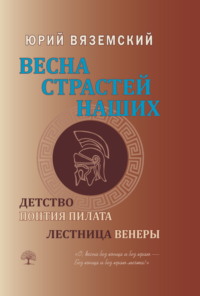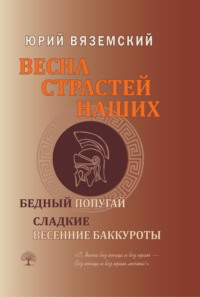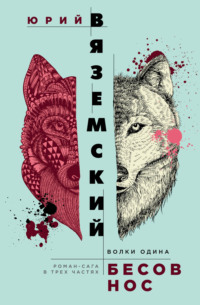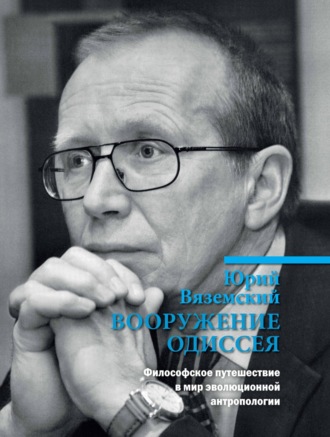
Полная версия
Вооружение Одиссея. Философское путешествие в мир эволюционной антропологии
У святого Франциска на ладонях были раны, словно не Христа, а его, Франциска, к кресту приколачивали. Конечно же – выдумка. Вот когда гипнотизер внушит своему пациенту ожог третьей степени и у того после сеанса вздуются на руках реальные и материалистические пузыри – это не выдумка, потому что неоднократно ученые наблюдали и гипноз современной наукой вполне признается как достоверное явление. А святой Франциск, который, похоже, ежесекундно страдал вместе с Распинаемым, сострадал Ему, любил Его так, как мы себя не любим, – ну разве может уважающий себя ученый допустить, что у него действительно были стигматы, то есть кровоточащие раны-язвы на руках и ногах?!..
Как возможно атеистически исследовать религию? Разве можно не-эстетически изучать искусство, не признавая ни поэтики как способа художественного мышления, ни метафоры как языкового инструмента этого мышления, ни рифм, ни колорита, ни контрапункта; то есть, дескать, обо всем этом говорят поэты, художники и музыканты, но все это лишь индивидуальный самообман и коллективный опиум для народа, а в научном плане ничего этого, разумеется, не существует.
Разве можно исследовать науку, не принимая в расчет и «решительно отвергая» логику, формулы, числа? Ведь числа тоже в природе не наблюдаются, они тоже – выдумка, и выдумка человеческая.
V
А сейчас пора подвести итог, то есть принять решение, вернее, объяснить, какое решение я вынужден был принять, какое решение меня заставили принять.
Я понял, что ничего иного мне не остается, как самому приняться за исследование, самому попытаться ответить на мучающие меня вопросы. Причем – на все сразу, ибо есть у меня почти убеждение, что только так, на все сразу, и возможно, а по отдельности на такие вопросы ответов не получишь.
И знаю, что нет у меня для этого иного поприща, кроме философии.
§ 21Потому что философия не наука наук, как ее иногда называют, а, на мой взгляд, более чем наука.
Генетика ее такова. Родная мать философии – религия. Почти тысячелетие она в материнском лоне пребывала, пока не родилась наконец в Малой Азии (в лице первофилософов, милетцев, эфесца и самосца). И долгое время матерью воспитывалась, от матушки-религии почти не отходила, ни в детстве своем платоническом, ни в отрочестве неоплатоническом и аристотеле-схоластическом. И лишь в юности наконец обратил на нее внимание и занялся воспитанием отец – Научный Дух. Во время этого воспитания она то уходила жить к отцу (Декарт), то возвращалась к матери (Лейбниц), пока не поняла, что раз Бог судил двух родителей, стало быть, обоих и почитать надо (Гегель). Но вскоре явился жених – Искусство, и с той поры у философии появилось еще и третье увлечение, так как с женихом этим она довольно скоро и тесно сошлась (Шеллинг и Шопенгауэр) и одно время даже стала ненавидеть отца-науку и пренебрегать матерью-религией, вернее, пытаться религию переделать, дескать, устарела матушка и надобно ее обновить, искупав в котле сверхчеловечества (Ницше). Но разве хорошо ругать своих родителей? Разве пристало от них отрекаться? То есть ты хоть тресни от ругани и трижды отрекись, но гены-то, ими переданные, никуда не денешь: сидят в тебе и командуют изнутри. Жених, однако, для созревшей девицы – магнит весьма притягательный, в перспективе – детородный. И вот в XX веке много деток пошло, которые на первый взгляд вроде бы философы, но, ежели к ним приглядеться, на художественного папашу своего более похожи и лицом, и ухватками, и даже мышлением. Детки выдающиеся: Розанов, Камю с Сартром, испанец Унамуно, другие самобытнейшие исследователи, которые ни на философию, ни на искусство в открытую никогда не претендовали (скажем, Бахтин или Аверинцев), дескать, скромные мы филологи, в коммунистическом детском доме выросли и родителей своих, врагов народа, не помним; но помнят, и чтят, и видно, как много они унаследовали и от философии, и от искусства. (Полагаю, они на меня не обидятся, что я их «детками» назвал, я – зеленая тварь и ниже ящерицы).
Учитывая происхождение философии, стоит ли удивляться, что она, так сказать, имманентно сопрягает три способа познания (науку, искусство и религию) и соответственно три формы мышления (логику, поэтику и мистику)? Стоит ли сердиться, скажем, на Шпенглера, что он в своих построениях более метафоричен, чем понятиен («судьба», например, которой так много в его сочинении, конечно же, не научное понятие, а художественный образ)? Надо лишь приветствовать, что Лосев часто изучает мифологическое сознание изнутри него самого, то есть соответствующим образом организует свой текст.
§ 22Я полюбил философию за широту взглядов, свободу сопоставлений и обобщений, дерзость в постановке вопросов и бескорыстие целей. То есть за прямую противоположность ее строгой, узкой и часто поразительно эгоистичной и трусливой науке. Конечно, за широту, дерзость и особенно за свободу приходится платить: никого в науке так дружно и злобно не ругали, как философов, особенно философствующих ученых (достаточно вспомнить экономиста Маркса и психолога Фрейда). Но истинно философствующие никогда не боялись чужой критики, она их не сковывала. Им еще Сократ завещал не бояться чужих мнений; вернее, как раз наоборот – бояться, что эти чужие мнения могут сковать их философскую независимость, их свободный поиск истины.
И при внутренней исследовательской свободе, при максимальной широте охвата действительности, настоящая философия, как я заметил, оставалась чужда интеллектуальному анархизму, окостенелой замкнутости систем и, отрицая мертворожденные, препятствующие всяческому духовному оплодотворению и исследовательскому зачатию «мнения», чуть ли не генетически наследовала и развивала все живое, плодотворное и плодоносное, зародившееся в предшествующем движении мысли: Платон воплотил в себя все достижения древней философии; греческие отцы церкви IV века, помимо того, что они создали новое, христианское, богословие, как бы подвели итог всей эллинской мудрости, почерпнув у Платона, у Аристотеля, стоиков и неоплатоников все, что у них можно и нужно было воспринять; а Гегель открыто призвал к творческому примирению всех продуктивно философствующих и устремленных к истине. И за эту свободу как осознанную необходимость примирять, а точнее – синтезировать, а еще точнее – диалектически воспринимать и преображать все плодотворное, взращенное и предложенное в симфонической истории человеческого интеллекта, – за это я особенно полюбил философию.
§ 23Могу ли, смею ли я рассчитывать на взаимность?
Видите ли, во мне уже давно писатель борется с ученым, и сперва меня это очень угнетало, а потом вдруг осенило: хватит им ссориться, пора примирить этих внутренних близнецов, и пусть один другому поможет. То есть, с одной стороны, я вроде бы очень нескладный и неприспособленный для философского пути индивид, а с другой – может, даже и хорошо, что ученый, писатель, к тому же еще и верующий человек, пусть кое-как, но воцерковленный, лет тридцать уже изучающий христианское богословие, а также иные религии, в том числе и древние; плюс к этому политика меня всегда интересовала, и институт я окончил политический. Может статься, эта моя раздвоенность, растроенность, расчетверенность – не творческая болезнь и не интеллектуальная ущербность, а напротив – духовный иммунитет, который защитит меня от одномерности, так болезненно поразившей философию XX века и, если верить Герберту Маркузе, то и современного человека (по крайней мере, человека западного).
Отправляюсь я в путь как ученый, но когда буду натыкаться на препятствия, которые наука преодолеть не в силах, буду обращаться за помощью к писателю, а если и тот не сможет – к мистику. Помните, в тех редких сказках, где спутники не соперничают друг с другом, а сотрудничают, они, как правило, всюду проникают и всего добиваются, и каждый из них внакладе не оказывается, а сказка имеет счастливый конец. Так и мы пойдем, стараясь обнаруживать научные закономерности, двигаясь в сретение художественным правдам. А если при этом Господь сподобит нас хотя бы лучиком благодати, приоткроет хотя бы одну из бесчисленных завес Своей Тайны…
Одним словом, сам я дерзнул и вас имею наглость пригласить на философское восхождение.
VI
Но прежде чем мы тронемся в дорогу, давайте сперва договоримся о трех непременных условиях нашего с вами и всякого вообще восхождения, о том, что: 1) есть Гора, 2) учрежден Путь и 3) творит его изменяющийся Восходитель. Впоследствии мне придется преобразовать эти три простых условия в целую методологическую систему, которую я буду именовать «орософией» (буквальный перевод с греческого: «горная мудрость»). Но сейчас рано об этом. Сейчас важно лишь обозначить общие условия и кратко перечислить основные параметры мышления.
§ 24Условие первое. Гора есть.
Странно, что Карл Густав Юнг не включил Гору в число своих самых основных архетипов. Ибо что может быть более архетипическим, краеугольным, универсальным и в то же время субъективно-ощущаемым, интимно-переживаемым, имманентно-присущим психической конструкции, духовной архитектонике?
Прежде всего это один из архесимволов. Горы есть во всех религиях: шумерской и аккадской, китайской и индийской, греческой и еврейской, ветхозаветной и новозаветной, буддистской и джайнистской, зороастрийской и мусульманской. Нет горы в собственном смысле слова, ну так холм мы обнаружим, возникший из первоначального хаоса, как в некоторых вариантах египетского космогонического мифа. Даже там, где, казалось бы, никаких мифологических гор быть не должно, и там самую высокую гору называют пиком Коммунизма, а до этого она называлась пиком Сталина.
Образ Горы едва ли не самая архетипичная метафора в искусстве. В Китае, например, всю поэзию и живопись можно свести к археметафорике «гор и вод». И кто главный герой «Божественной комедии» Данте – Вергилий, Беатриче, сам Данте? Я полагаю, что все же Она, Гора: Гора Чистилища, Антигора Ада и Сверхгора Рая. Обратите внимание: чуть ли не на каждом полотне Леонардо да Винчи на заднем плане – Гора; за спиной Джоконды она едва различима, но тем настойчивее давит на сознание, словно увиденная в гипнотическом сне, объятая сумеречным сиянием, насыщенная влажными испарениями и окутанная предсознательной дымкой. И что такое треугольная композиция, открытая Леонардо и с тех пор утвердившаяся в классической живописи, – что это как не проекция Горы, позволяющая божественным образом отразить, изобразить и передать от души к душе сокровенную духовность человеческую?
В науке понятия Горы, знака Горы вроде бы нет. Но смотрите, что, вернее, как пишет Вернадский: «Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она является. Это не случайное явление – корни его чрезвычайно глубоки»8 (курсив мой. – Ю. В.). Обратите внимание на лексику. И разве конструкция геосфера – биосфера – ноосфера – не Гора? Разве это не базовая архитектоника всей научной системы Вернадского? И ни один эволюционист не обходится без таких краеугольных понятий, как «лестница существ» (о ней заговорил еще Аристотель), «эволюционное древо» и даже «великое Древо Жизни»9.
Вы возразите: Древо и Лестница – не Гора. Ну так смею вас заверить, что в мифологиях самых различных народов Мировое Древо и Мировая Гора, что называется, контаминируются, то есть эти символы накладываются друг на друга, и Древо есть Гора, а Гора – Древо. И Лестница и Река – тоже Гора. Сами посудите, кому нужна горизонтальная лестница; и разве может быть река без горы: откуда ей течь-то?
Не столь важно, как ты представляешь себе Мировую Гору – горой, деревом, лотосом, рекой или лестницей; важно признать ее как символ, метафору и понятие.
В философии увидеть Гору – значит начать строить систему.
§ 25Условие второе. Путь учрежден.
Есть целая религия, название которой можно перевести на русский язык как «путианство»; я имею в виду китайский даосизм, ибо, хотя Дао имеет много смыслов, «Путь» – основной, центральный из них. Система правил духовной подготовки для вступления в члены суфийского ордена называется «тарика», что в переводе буквально означает «путь», «дорога». Древнееврейское, ветхозаветное «дэрэк» – многозначное слово, но прежде всего «дорога», «путешествие», «предприятие», «поведение». И когда апостол Фома спросил Христа: «Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?», Иисус ответил: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня»10. На первом месте «путь», и Сам Христос – Путь. И если русское слово «воскресение» перевести на греческий, а затем снова начать переводить на русский, то получим целую гамму путевых и путеносных смыслов и символов: «воздвижение… восстановление… выступление… переселение… пробуждение от сна… восстание из мертвых, воскресение»11.
В искусстве Путь – едва ли не основная макрометафора. Странствуют подавляющее большинство литературных героев: Одиссей, Эней, Данте (как главный герой «Божественной комедии»), Король Лир и Гамлет, Фауст и Вильгельм Мейстер, Дон Кихот и Дон Жуан, Онегин, Печорин, Чичиков, Болконский, Безухов и Нехлюдов. Странствуют не только в географическом пространстве, но прежде всего в пространстве духовно-временном, меняя свои взгляды и убеждения, взрослея или молодея душевно, порой даже телесно преображаясь. Всю мировую музыку можно определить как путь чувств и звуков. И если кто-то возразит мне, что в живописи, скажем, нет пути и какой такой путь может быть в натюрморте, я спрошу его: а что такое перспектива? И кому нужна живопись, которая лишена всяческого движения, сама никуда не идет и вас оставляет в духовной неподвижности?
И что такое научное понятие эволюции, научное понятие истории? И что такое психология без понятия пути? «Передо мною высокая гора. Это цель моей жизни. Я вижу ее, думаю о ней, хочу достичь ее, но взойти на эту вершину хочу самостоятельно. Я уже поднимаюсь, делаю первые шаги; и чем выше ступает моя нога, тем более широкий горизонт открывается мне, тем больше я вижу людей, тем больше познаю их, тем больше людей меня видят. От величия и безграничности того, что мне открывается, делается страшно…» Вы полагаете, это какой-то мистический поэт или поэтический мистик написал? Божественно безумный Гельдерлин? Вакхически одержимый Ницше? Нет, эти строки принадлежат закоренелому коммунисту, вдохновенному дуалисту, учившему детей одновременно нежнейшей любви к ближним и священной ненависти к врагам, самородному украинскому учителю и психологу В. Сухомлинскому. И он свое видение «материалистически» объясняет: «Вот что сказал бы подросток, если бы он умел сказать о том, что его волнует, и если бы – самое главное – он захотел откровенно обо всем сказать»12.
Путь учрежден, и, как вы уже, наверное, заметили, он ведет в Гору.
В религиях он символически разделяется на ступени. Их в разных религиях по-разному называют: «станции», «стоянки», «состояния». Но мне больше нравится слово «ступени». Вспомним сон Иакова: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»13. Раз «лестница», значит, «ступени». И греческие отцы церкви о «ступенях» говорят. Буддизм хинаяны перечисляет шесть последовательных ступеней, буддизм махаяны – уже десять, а если верить Такуану, этих ступеней – целых пятьдесят две.
В искусстве ступени я предпочитаю называть «кругами» – Данте как-никак предложил и тщательно метафорику кругов разработал.
В науке – стадиями.
В философии же такое восприятие мира как стадиального, ступенчатого и восходяще-кругового Пути я понимаю как метод историзма.
§ 26Условие третье. Изменяющийся Восходитель.
В буддизме восходящий по «десяти ступеням» прежде всего меняет свое мироощущение, постепенно начинает видеть то, что для обычного человека скрывается за «делами и вещами», проникает внутренним взором в сущность других людей, расширяет свободу действий, вспоминает и помнит о предыдущих своих жизнях и наконец обретает совершенную свободу, непривязанность к чему бы то ни было14. Не только духовно, но и телесно преобразился Моисей, взойдя на гору Синайскую. Главным образом телесно преобразился Иисус перед тремя своими апостолами, ибо разве нуждался Он в духовном преображении? Но техника, так сказать, преображения, суть его в разных религиях почти одинаковые. «Я шел с тем, чтобы постигнуть Бога. С этой мыслью, отрешившись от вещества и вещественного, собравшись, сколько мог, сам в себя, восходил я на гору…» Кому принадлежат эти строки? Буддисту? Суфию? Христианину? Попробуйте сами догадаться, а потом посмотрите соответствующую сноску15.
Преображение для восходящего по религиозному склону и превращение для тех, кто восходит руслом искусства. Тысячи лет назад, когда возник едва ли не первый собственно художественный жанр – сказки, герои их сразу стали превращаться: животные – в людей, люди – в животных, в растения. И до сих пор превращаются. В мерзкое большое насекомое превратился герой Франца Кафки; и сама повесть называется «Превращение». Я не знаю ни одного крупного литературного произведения, где бы этих превращений вообще не было; чтобы король не стал нищим («Король Лир»), меланхолический поэт – расчетливым и вдохновенным убийцей («Гамлет»), доверчивый влюбленный – ревнивым безумцем («Отелло»), холодный и циничный эгоист – пылким и самоотверженным влюбленным («Евгений Онегин»)… «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Тут каждая строчка, каждое слово превращением дышит и превращение в нас творит. Тут сам русский язык вступает в круг каких-то таинственных превращений, и, если эти гениальные стихи перевести на английский, на французский, на немецкий, все исчезнет, и банальность получится (поверьте, я внимательно читал самые удачные переводы).
Музыка как искусство самое чистое, как искусство искусств – это ведь сплошное превращение, даже с физической точки зрения: как только звук сменяется звуком (простите, частота – частотой), музыка рождается, и умирает, когда Превращение останавливается.
Превращаются и сами художники. «…Тот, кто хочет создать великое, должен сначала так создать себя самого (курсив мой. – Ю. В.), чтобы, подобно грекам, быть в состоянии низшую, реально существующую натуру поднять на высоту своего духа и сотворить то, что в природе, из-за внутренней слабости или внешнего препятствия, осталось всего-навсего намерением»16. Так объяснял Гете, который знал толк в превращениях. А вот Пушкин: «Но уже импровизатор чувствовал приближение бога… Он дал знак музыкантам играть… Лицо его страно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем…»17.
Но тут – тонкость, и мы обязаны соблюсти с вами философскую осторожность. Пушкин описывает почти что преображение. Но это не преображение. Окончив свою вдохновенную импровизацию, итальянец подойдет к Чарскому и будет цинично рассуждать с ним о заработанных деньгах и публике-дуре. Религиозное же преображение изменяет все внутреннее и внешнее существо человека если не навсегда, то надолго. Художественное превращение мимолетно, это лишь игра в преображение с самим собой, со зрителем (читателем, слушателем): хочу ангелом явлюсь вам, но в следующую минуту – дьяволом, и чем больше будет во мне одновременно ангельски-дьявольского, тем лучше я актер; шекспировский Яго, конечно, злодей и подлец, но гениальнейшим образом, на мой взгляд, проник в суть искусства, назвав Дездемону «светлой дьяволицей».
Научные восходители изменения жизни на Великом Пути называют чаще всего трансформациями, а сам процесс – трансформизмом. При этом их, естественно, интересуют, так сказать, объективные изменения, которые я бы предпочел именовать морфологическими, структурными, функциональными – то есть теми, которые поддаются измерению и схематизации.
§ 27Философские восходители, как я понимаю, сам процесс этих преобразований именуют диалектикой. Слово «диалектика» меня вполне устраивает, и я не собираюсь изобретать никаких собственных слов. Но сразу должен предупредить: под диалектикой я понимаю не только философский подход и умозрительное представление о трансформации-превращении-преображении, но и механизм этих изменений, процесс их, сущностное их содержание. Тут я полностью согласен с Гегелем, что диалектический метод не есть нечто отличное от своего предмета и содержания, что его нельзя привнести извне, а можно лишь вывести, извлечь из самого предмета.
§ 28И то же самое спешу сказать о методах историзма и системности, которые для меня суть намного большее, чем просто методы, не только истина, но путь и жизнь. И как весьма условно мы можем говорить отдельно о системности, отдельно об историзме и отдельно о диалектике, прекрасно понимая, что все они теснейше взаимосвязаны и органически сопряжены, так и Гору, Путь и Восходителя нужно представлять себе и можно исследовать лишь в тройственном их единстве, обязательно, ибо убери одну, любую, часть этого трехчлена, и все представление наше разрушится. «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Что тут можно убрать, не разрушив общей картины?
То же самое в искусстве.
Об этом, надеюсь, мы с вами договорились, априорно, как любят иногда выражаться философы.
Можно отправляться в путь?
VII
Нет. Недостаточно одной потребности к восхождению. Не знаю, как вам, но мне для того восхождения, которое я задумал, нужны помощники. Никак без них не обойдусь.
§ 29В альпинизме такие помощники называются «шерпами». Ни одна серьезная экспедиция без них не обходится. По крайней мере, не обходилась ранее. Особенно в Гималаях.
Эти самые шерпы тщательно изучали опыт предшествующих восходителей, предварительно исследовали местность, разрабатывали наиболее перспективные маршруты восхождения, заранее отмечали наиболее опасные участки пути, руководили тренировкой альпинистов в базовом лагере, их акклиматизацией, рекомендовали необходимое снаряжение и т. д. Во время самих восхождений одни шерпы прокладывали маршрут через ледопады, другие переносили грузы, третьи отвечали за баллоны с кислородом, четвертые – за радио- и фотоаппаратуру, пятые – за медикаменты, шестые – за вьючных животных и т. п. Все это делали шерпы, и целый караван иногда отправлялся из нижнего лагеря, от лагеря к лагерю уменьшаясь в числе; вершины достигали единицы, но шерпы как бы возносили их туда, словно многоступенчатая ракета-носитель, которая, однако, не отпадала совсем и не сгорала за ненадобностью, а оседала на склоне восхождения, в многочисленных лагерях; и там вас ожидают, там за вами наблюдают, греют вам палатку, готовят еду и в любой момент готовы прийти на помощь. Можно, разумеется, отказаться от помощи шерпов, и некоторые горделивые смельчаки отказывались, но, как правило, тот, кто жалел денег и славы на шерпов, не жалел своей жизни, и в лучшем случае слава была посмертной, а в худшем – бесславно и безвестно исчезали они на склонах коварной горы.
Не хочу так исчезнуть и без шерпов, обещаю вам, ни за что из лагеря не выступлю.
§ 30Шерпы бывают разные, и надо отличать их вклад в восхождение того или иного альпиниста. Вспомните «Божественную комедию». Там много шерпов подвизаются, но лишь одного из них, Вергилия, Данте называет «учителем», «вожатым», «вождем». Вергилий руководит каждым шагом Данте, поддерживает его физически и духовно, оберегает от опасностей, защищает от злых сил, наставляет, объясняет, вдохновляет, и Данте покорно и благодарно подчиняется его руководящей воле, его мудрости и опыту, а теряя из виду Вергилия, пугается, как дитя… Если он, Данте Алигьери, величайший, дерзновеннейший и горделивейший из известных мне духовных восходителей, и шагу не мог ступить без Вергилия, то мне таких руководителей надо по меньшей мере четыре: в науке, искусстве, религии и философии.
Помимо руководителей мне нужны еще напарники (спутники, провожатые). В «Божественной комедии» они довольно часто помогали Данте и Вергилию, указывали путь, объясняли устройство Горы: поэт Сорделло сопутствовал по уступам Предчистилища, представлял великие тени в Долине земных властителей; римский поэт Публий Папиний Стаций, присоединившись к Данте и Вергилию в пятом круге Чистилища, провожал до Земного Рая. И хотя услугами своих напарников я буду пользоваться не столь бесстрашно, безропотно и беззастенчиво, как распоряжениями вожатых, уже сейчас ясно, что провожатых у меня должно быть намного больше, чем руководителей.