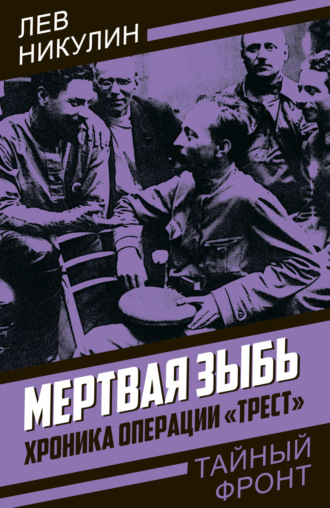
Полная версия
Мертвая зыбь. Хроника операции «Трест»
Все чаще и упорнее говорили о «темных силах» и всемогущем старце Распутине… Говорили люди, которых Якушев почитал за их титулы, придворные звания и богатство. Он уже не мог считать устойчивым свое служебное положение: беспрестанно сменялись премьер-министры и министры, происходило то, что называли «министерской чехардой», и каждый министр тащил за собой «хвост» каких-то приближенных, а иногда просто проходимцев.
Показывали безграмотные, написанные каракулями записочки «старца», адресованные высшим сановникам: «Милай, дарагой, помоги ему, бедному; бог тибе не аставит…» И сановники помогали явным жуликам и казнокрадам.
Знакомый генерал, близкий к ставке «Верховного», рассказал Якушеву, что царица вмешивается в дела военные, что по совету Распутина не только сменяют министров, но передвигаются армии и начальник штаба Алексеев ничего не может сделать.
«Не слушай Алексеева, – писала царица своему венценосному супругу, – а последуй совету нашего друга… ведь ты главнокомандующий». И царь следовал совету «друга»… войска несли огромные потери.
Когда убили Распутина, Якушев подумал, что зло вырвано с корнем, но ничего не изменилось, и стали говорить без стеснения о подозрительных связях царицы чуть ли не с германским штабом, переписывали стенограммы речей ораторов в Государственной думе и те статьи в немецких газетах, где было напечатано о влиянии на царя «молодой царицы».
Все шаталось, рассыпалось и наконец рухнуло в феврале семнадцатого года. Якушев всегда считал себя патриотом и не мог безболезненно переживать неудачи на фронте. Отречение царя в пользу Михаила, брата, казалось Якушеву единственным спасением. Но вот отрекся от престола и Михаил. Как же быть? Да, Николай был слаб, но важно не то, кто сидит на троне, важен монархический принцип. А главное – нет порядка. Когда кто-то из подчиненных явился в департамент с красным бантиком в петличке, Якушев приказал ему «убрать вот это», как не соответствующее форменной одежде коллежского асессора в служебное время.
Бородатые солдаты, без поясов, шинель внакидку, вызывали в Якушеве гнев. Он думал: где же верные полки, которые так хороши были в дни парадов на Марсовом поле, лейб-гусары в ментиках, гиганты кавалергарды, лейб-казаки?.. Хуже всего то, что какой-то адвокат Керенский на фронте, влезая на стул, просил (именно просил, а не приказывал) наступать, а в это время адъютантишка держал над головой премьера зонтик…
Все тревожило, огорчало, раздражало. Александр Александрович искал утешения… Осенью семнадцатого года он решил развлечься и, получив приглашение на бенефис Милочки Юрьевой, отправился в театр миниатюр на Троицкой. Якушев ценил не столько талант Милочки, сколько ее миловидность и пухленькие плечики. Когда он прошел за кулисы поблагодарить танцовщицу «за доставленное удовольствие», то встретился с ее покровителем Массино, о котором слышал как о загадочном субъекте. Господин Массино, видимо, был предупрежден об этой встрече и тут же пригласил его к Милочке Юрьевой на квартиру.

Игорь Горбачев в роли Александра Якушева
У Якушева осталось воспоминание о квартире Юрьевой, обставленной в восточном вкусе, об уютной гостиной с расписным фонарем в потолке, коврах, тахте и восьмигранном столике перед ней, о розовом, редком в то время, шампанском. Но более всего он запомнил беседу с «турецким и восточных стран негоциантом» месье Массино, как значилось на визитной карточке.
С брезгливой усмешкой Массино говорил о Временном правительстве, о разрухе на транспорте, о том, что американцы всерьез возьмутся за эту несчастную страну, если им отдадут, например, железные дороги и рудники Донецкого бассейна. Со знанием дела Массино говорил о том, что в Америке формируется «железнодорожный корпус» для России, что надо изучить провозоспособность Уссурийской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также водные пути. В этом случае не обойтись и без русских чиновников, предвидятся большие вложения капиталов в нефтяные промыслы, медеплавильное дело, страховые компании, банки.
Якушев понимал, что, в сущности, речь идет о распродаже России, об ее ограблении. Ведь он по-прежнему считал себя патриотом. Но когда Массино заговорил с явным сочувствием о генерале Корнилове и неудаче его заговора, Якушев оказался единомышленником своего собеседника. Все же от встречи с этим господином остался скверный осадок. Когда после Октябрьской революции до Якушева дошел слух об аресте Милочки, он отнесся к этому равнодушно. И вот следователь напомнил Якушеву о ней и ее покровителе.
Все-таки как получилось, что он, Якушев, здесь, в четырех стенах, арестант? Ничто не предвещало беды, подполье хорошо законспирировано, иначе бы его не послали в командировку за границу. Удивила тотчас, вслед за возвращением, командировка в Сибирь, в Иркутск. Он не терпел проводов, уехал на вокзал один. На вокзале вышло какое-то недоразумение с билетом. Потом он оказался в автомобиле – и здесь, в камере. Конечно, его арестовали за старое, за то, что было в Петрограде, если за другое, тогда – конец.
Обо всем этом думал Якушев, зажмурив глаза, чтобы не видеть решетки в окне. Камеру тюрьмы, решетку он считал нормальной обстановкой для тех, кто шел против царя, но не для верноподданного и благонамеренного чиновника Александра Якушева.
Раздумья прервал надзиратель. Якушева повели на допрос. Они шли по коридорам бывшего жилого дома. Проходы из квартиры в квартиру были пробиты зигзагами, так, чтобы квартиры сообщались между собой. Здесь разместились следователи и другие сотрудники ЧК. Якушева привели в просторную комнату, не в ту, где происходили первые допросы. Видимо, эта большая комната была когда-то гостиной, от прежнего убранства сохранилась только люстра с хрустальными подвесками. Кроме следователя-инженера (это был Артузов) в стороне сидел незнакомый Якушеву человек. Лицо его разглядеть было трудно, он что-то читал, перебирая исписанные листки.
– Вернемся к осени тысяча девятьсот семнадцатого года, к вашей встрече с Массино, – сказал Артузов.
– Пожалуйста.
– Вы твердо убеждены в том, что он занимался только коммерческой деятельностью? Политикой он, по-вашему, не интересовался?
– Речь шла о железных дорогах, шахтах, водных путях…
– А это не политика? Речь шла и о другом, насколько мы знаем.
– Да, ведь Юрьева была арестована.
– Вы это знаете?
– Мало ли за, что могли арестовать эту дамочку. За спекуляцию, например.
– И вы больше ничего не слышали о Массино?
– Нет.
– Как же вы, патриот, могли равнодушно отнестись к планам ограбления вашей родины?
– Мне было неприятно это слышать.
– Какая деликатность… Так вот, Массино, конечно, был и коммерсантом, но у него есть и другая профессия и другое имя. Его настоящее имя Сидней Джордж Рейли. Он английский шпион и организатор террористических актов против советской власти. Он приговорен к расстрелу по делу Локкарта и Гренара. Об этом процессе вы, вероятно, слышали?
Якушев молчал. Он подозревал, что Массино и Рейли – одно лицо.
– Ну, оставим этот эпизод вашей жизни, хотя он все-таки пятно на ваших белоснежных ризах патриота. Кто такая Варвара Николаевна Страшкевич?
Холодная дрожь прошла по телу Якушева.
– Варвара Николаевна… Моя соседка. Мы живем в одном доме… Она бывает у нас, мы немного музицируем… У нее приятное сопрано, у меня баритон…
– Вы больше ничего не можете добавить к тому, что написали? – спросил Артузов.
– Ничего. Могу добавить – она мне когда-то нравилась.
– Да. Вы светский человек, Якушев… Но здесь не салонная беседа, мы не будем терять времени. Вы обещали сказать всю правду, а написали только то, что нам давно известно о вашей контрреволюционной деятельности.
Якушев сидел спиной к дверям. Артузов молча смотрел на него, а человек, перебиравший листки, не обращал внимания на арестованного, увлеченный чтением. Дверь за спиной Якушева открылась и снова закрылась. Он повернул голову и мучительным усилием заставил себя отвернуться. Прямо к столу шла высокая пожилая женщина, шумно шурша валенками. Она села на стул против Якушева. Обращаясь к женщине, Артузов сказал:
– Гражданка Страшкевич, вы знаете этого гражданина?
Женщина ответила тихо:
– Знаю. Это Александр Александрович Якушев.
– Гражданин Якушев, вы знаете эту гражданку?
– Знаю. Это Варвара Николаевна Страшкевич.
Человек, до сих пор что-то читавший, поднял голову. Его взгляд и взгляд Артузова скрестились на Якушеве, и тот подумал: «Нет, надо бороться. Иначе…»
– При каких обстоятельствах вы встречались с гражданкой Страшкевич?
– Мы были знакомы еще в Петербурге.
– При каких обстоятельствах вы встречались с гражданкой Страшкевич в последний раз, в Москве?
Якушев подумал и ответил:
– Не помню. – Потом добавил: – Предпочитаю не отвечать, я бы не хотел, чтобы мой ответ повредил Варваре Николаевне.
Артузов записывал ответы Якушева и Страшкевич. Другой, сидевший рядом с ним, спросил:
– Гражданка Страшкевич, при каких обстоятельствах вы встретились в последний раз с Якушевым?
– В начале ноября… числа не помню… Александр Александрович пришел ко мне и сказал: «Я еду в служебную командировку в Швецию и Норвегию. На обратном пути остановлюсь в Ревеле, хотел бы повидать Юрия», то есть моего племянника Юрия Артамонова… Ну вот Александр Александрович мне говорит: «Напишите Юрию пару слов, вы его обрадуете, я ему передам». Я написала буквально пару слов: жива, здорова. Александр Александрович взял у меня письмо, побыл недолго, вспомнил прошлое и ушел. После этого я его не видела.
– Якушев, вы подтверждаете то, что говорила гражданка Страшкевич?
– Подтверждаю. Так все и было. Мне хотелось сделать приятное Варваре Николаевне. Почта работает неважно. А тут есть возможность передать непосредственно привет родственнику.
– Гражданка Страшкевич, у вас есть вопросы к Якушеву?
– Нет.
– У вас, Якушев, есть вопросы к Страшкевич?
– Нет.
– Уведите.
Страшкевич встала, пугливо озираясь на Якушева, пошла к дверям. Там ее ожидал надзиратель. Если в первые минуты Якушев был ошеломлен появлением Страшкевич, то теперь он взял себя в руки. Да, он отвозил письмо. Он мог даже не передать его адресату, забыть, а потом оно затерялось. Надо сказать: «Напрасно я его взял. Человек, как говорится, задним умом крепок».
– Вы встречались с Артамоновым до Ревеля?
– Я ни разу не встречал его после того, как он окончил лицей.
– Это правда?
– Повторяю, я с ним не встречался после тысяча девятьсот семнадцатого года.
Наступило молчание. Тот, другой, нарушил молчание, сказав:
– Не будем терять времени даром. Слушайте, Якушев. Вы встречались с Артамоновым не раз в Петербурге. Вы отлично знали, что Артамонов бывший офицер, в восемнадцатом году, в Киеве, состоял в свите гетмана Скоропадского. Потом в Ревеле работал в английском паспортном бюро как переводчик. Вы все это знали и потому взяли письмо у Страшкевич. Вы были у Артамонова в Ревеле, в его квартире на улице Пиру.
Якушев почувствовал, как бледнеет, кровь отливает от лица, мысль работала лихорадочно, он старался овладеть собой и придумать ответ.
– Да, я был у Артамонова.
– Почему же вы это скрыли?
– Я не хотел причинить вред Варваре Николаевне Страшкевич… – «Не то, не то я говорю», – подумал он.
– Слушайте, Якушев, – резко начал Артузов. – Вы обманули доверие советской власти, вас посылали за границу с важными поручениями. А что вы сделали? Вы связались с врагами советской власти. Артамонов белогвардеец, враг. Разве вы этого не знали?
– Разговор у нас был самый невинный. Он спрашивал меня о жизни в Москве.
– И что вы ответили?
– Ответил, что живется трудно, что советская власть пытается восстанавливать промышленность… что нэп пока мало себя оправдывает.
– И это все? Об этом вы говорили шесть часов?
«Даже время известно», – подумал Якушев и сказал:
– Вспоминали старину, то есть прошлое.
– И только? Больше ничего вы не хотите добавить к вашим показаниям о встрече с Артамоновым в Ревеле?
– Я все сказал.
И тогда заговорил тот, другой (это был Пилляр). Он взял один из листков, которые просматривал раньше.
– Слушайте внимательно, Якушев. Это касается вас, я читаю: «Якушев крупный спец. Умен. Знает всех и вся. Наш единомышленник. Он то, что нам нужно. Он утверждает, что его мнение – мнение лучших людей России. Режим большевиков приведет к анархии, дальше без промежуточных инстанций к царю. Толчка можно ждать через три-четыре месяца. После падения большевиков спецы станут у власти. Правительство будет создано не из эмигрантов, а из тех, кто в России…» Вы в самом деле в этом уверены, Якушев?
Якушев молчал, он глядел на листки в руках Пилляра так, как если бы ему читали смертный приговор. «В сущности, так оно и есть», – думал он.
– Читаю дальше: «Якушев говорил, что «лучшие люди России не только видятся между собой, в стране существует, действует контрреволюционная организация». В то же время впечатление об эмигрантах у него ужасное. «В будущем милости просим в Россию, но импортировать из-за границы правительство невозможно. Эмигранты не знают России. Им надо пожить, приспособиться к новым условиям». Якушев далее сказал: «Монархическая организация из Москвы будет давать директивы организациям на западе, а не наоборот». Зашел разговор о террористических актах. Якушев сказал: «Они не нужны. Нужно легальное возвращение эмигрантов в Россию, как можно больше. Офицерам и замешанным в политике обождать. Интервенция иностранная и добровольческая нежелательна. Интервенция не встретит сочувствия». Якушев безусловно с нами. Умница. Человек с мировым кругозором. Мимоходом бросил мысль о «советской» монархии. По его мнению, большевизм выветривается. В Якушева можно лезть, как в словарь. На все дает точные ответы. Предлагает реальное установление связи между нами и москвичами. Имен не называл, но, видимо, это люди с авторитетом и там, и за границей…» Вот о чем вы говорили с Артамоновым, Якушев. Вам известна фамилия Щелгачев? Всеволод Иванович Щелгачев?
– Известна, – едва шевеля губами, ответил Якушев. – Служил в разведке у Врангеля.
– Он присутствовал при вашем разговоре с Артамоновым?
Якушев только кивнул. Он был потрясен. Он думал о том, как точно сказано в этих листках все, о чем он говорил Артамонову и Щелгачеву. Отрицать? Но у него не было сил.
– Подведем итог. Таким образом, вы, действуя от имени контрреволюционной организации в Москве, предлагали свои услуги по установлению связей этой организации с белоэмигрантами за границей? Подтверждаете?
– Подтверждаю.
Пока Артузов писал, Якушев думал: кто мог его выдать? Неужели Артамонов? Он отгонял эту мысль, он видел перед собой холеное лицо Юрия, его красивые глаза, брови сдвигались, и глаза загорались злобой, когда он говорил о большевиках. Смешно даже подумать, что он выдал Якушева. Щелгачев? Офицер лейб-гвардии Преображенского полка, капитан из контрразведки Врангеля… Но все-таки каким образом в ЧК все узнали?
И он вдруг заговорил, задыхаясь, путаясь в словах:
– Да, все было… Было, но откуда, как вы узнали? Теперь все равно, я сознался… Но откуда, как вы узнали? Не Артамонов же, не Щелгачев… Не такие это люди. Они полны ненависти к вам.
– Это правда.
– Тогда кто же? Впрочем, вы мне, конечно, не скажете. – Якушев понемногу приходил в себя. – Кто? Эта мысль меня будет мучить, когда буду умирать…
– И все-таки это Артамонов, ваш воспитанник, – сказал Артузов.
– Неправда! – сорвалось у Якушева.
Тогда Пилляр, держа в руках листки, показал ему начало письма: «Милый Кирилл…» – и в конце письма подпись: «Твой Юрий». Затем показал конверт с адресом: «Князю К.Ширинскому-Шихматову, Курфюрстендам, 16. Берлин. От Ю.А.Артамонова, Эстония, Ревель». Якушев помертвел. На мгновение все подернулось как бы туманом, больно кольнуло в сердце, голова упала на стол, все исчезло. Это продолжалось несколько секунд, он почувствовал, что по подбородку льется вода. Перед ним стоял Артузов со стаканом в руке.
– Вот как на вас подействовало, – услышал Якушев. Но это не был голос Артузова. Он медленно поднял голову и увидел человека в шинели, накинутой на плечи. Лицо разглядел позже, лицо очень усталого, пожилого человека, с небольшой бородкой и тенями под глазами. Якушев узнал Дзержинского, хотя видел его лишь однажды в ВСНХ.
– Вы потрясены, Якушев? Вы верили в то, что имеете дело с серьезными людьми, «белыми витязями», как они себя называют… Хороши «витязи»! Сами сидят за границей и играют чужими головами, подставляя под удар таких, как вы. Кому вы доверились? Эти господа играют в конспирацию по-мальчишески. И вот видите, письмо Артамонова очутилось у нас. Его прислали нам наши товарищи из Берлина. Разве мы не знали вашего прошлого и того, чем вы занимались в тысяча девятьсот девятнадцатом году? Знали, зачеркнули, поверили и дали вам работу! Вы могли хорошо, честно трудиться по своей специальности. К нам пришли и с нами работают люди, которые вначале скептически, даже враждебно, относились к советской власти. Но постепенно они убеждались в том, что у нас одна цель: восстановить народное хозяйство, из отсталой, темной России создать первое на земле социалистическое государство. А такие, как вы, Якушев, шли на советскую работу с расчетом, чтобы под маской честного специалиста устраивать контрреволюционные заговоры. Так?
– Да. Так. Я виноват в том, что, находясь на советской службе, связался с эмигрантами… Но, по правде говоря, это ведь были одни разговоры. Мне хотелось произвести впечатление, я говорил о том, чего нет в действительности… Одни разговоры.
– Нет, Якушев. Это были не просто разговоры, не контрреволюционная болтовня. Есть конкретные, уличающие вас факты, вы и ваши единомышленники в Москве и Петрограде готовили выступления против советской власти, вы были одним из руководителей подпольной монархической организации.
Дзержинский смотрел прямо в глаза Якушеву. Тому было трудно выдержать прямой, пронизывающий взгляд, он опустил голову.
– Мы поставили вас перед фактом, уличили в том, чем вы занимались в Ревеле. Мы знаем, что вы делали в Москве до и после поездки в заграничную командировку, вернее, что собирались делать, но вам помешали. Вы хотите, чтобы мы вас изобличили снова и поставили перед фактами вашей контрреволюционной деятельности в Москве? Подумайте, в ваших ли интересах об этом молчать? Подумайте об участи, которая ожидает вас, если по-прежнему будете лгать и изворачиваться! Только полная искренность, полное признание своей вины, своих преступлений может облегчить вашу участь. Дзержинский шагнул к двери.
– Я… подумаю, – с трудом выговорил Якушев.
– Мы вам дадим время подумать.
«Значит, все известно. Все…» Теперь у Якушева в этом не было сомнений. Когда он поднял голову, Дзержинского уже не было в комнате.
7
Якушев снова в камере. Он сидел перед чистым листом бумаги. В его сознании возникали путаные мысли. «Единомышленники, – думал он. – Кто они? Артамонов, Ширинский-Шихматов… Ничтожные людишки, игравшие моей головой. Или эти господа – петербургские сановники, у которых отняли их чины и звания, придворные мундиры, усадьбы, родовые имения, майораты. Или гвардейские офицеры, сенаторы, богачи-промышленники, выползавшие из щелей, куда они забились, чтобы обсуждать в Политическом совете МОЦР планы подготовки переворота…» Якушев думал о своей семье, детях, жене. Знают ли они, что с ним произошло? Может ли он принести себя в жертву, бросив семью на произвол судьбы? В тяжком раздумье шли минуты, часы… К утру на чистом листе бумаги появились первые строчки: «Признаю себя виновным в том, что я являюсь одним из руководителей МОЦР, Монархической организации центральной России, поставившей своей целью свержение советской власти и установление монархии. Я признаю, что задачей моей встречи в Ревеле являлось установление связи МОЦР с Высшим монархическим советом за границей, что при возвращении в Москву я получил письмо от Артамонова к членам Политического совета…»
По мере того как Якушев писал свои показания, перед ним яснее вырисовывались его единомышленники. Он не мог не думать о них в эту минуту. «Единомышленники? Черниговский помещик, камергер Ртищев, балтийский барон Остен-Сакен, нефтепромышленник Мирзоев, тайный советник Путилов. Они все еще мечтают о том, чтобы вернуть себе чины, поместья, богатство…
Я был белой вороной среди них… Как патриот, я заботился о благе народном… «Патриот», а всю ночь толковал с британским разведчиком о том, как отдать на разграбление родину! Чем все это кончилось? Я стою над бездной…»
Якушев писал откровенно обо всем, что знал, замирая от ужаса и отчаяния.
«Подписываю себе смертный приговор, – думал он. – Но все равно, пусть будет то, что будет… Если бы можно было зачеркнуть прошлое, жить для семьи, музицировать, любоваться картинами в музеях или просто работать на скромной должности, приносить пользу… Нет, все кончено».
И он написал: «Я рассказал всю правду о моей контрреволюционной деятельности и к этому могу только добавить: если мне даруют жизнь, то я откажусь навсегда от всякой политической деятельности. А.Якушев».
8
В феврале 1922 года нэп только разворачивался. Еще не появились объявления поставщика древесного угля Якова Рацера, в школах не писали карандашами концессионной фабрики Гаммер, не блистали в витринах магазинов лезвия бритв фирмы «Братья Брабец» и в пивных не подавали пиво фирмы «Корнеев и Горшанов».
Однако уже в то время москвичи с удивлением останавливались на Петровке перед освещенной витриной, где в «художественном» беспорядке были выставлены воротнички из пике, кепки из грубой шерсти, подтяжки, манишки. Удивительным казалось и объявление в Пассаже на опущенной железной шторе магазина: «Здесь в скором времени откроется контора товарищества Кушаков, Недоля и Ко».
Перед этим объявлением остановился Роман Бирк, совершавший обычную прогулку по Столешникову переулку и Петровке. Он собирался продолжить прогулку, как вдруг заскрежетала железная штора и из-под нее вынырнул Стауниц. Бирк вспомнил встречу у Кушаковых и, вежливо поклонившись, хотел уйти, но Стауниц непринужденно взял его под руку:
– Я вас заметил в боковое окно. Соблаговолите зайти, посмотреть, как мы устраиваемся, – и с удивительной настойчивостью увлек его за собой.
В конторе все еще был беспорядок, на полу неубранные стружки, пахло краской, но в глубине стоял стоя и над ним надпись: «Директор-распорядитель». На столе пишущая машинка, а за ней копалась в бумагах рыжеволосая девица.
– Прошу ко мне, – сказал Стауниц с той же настойчивостью и проводил Романа Бирка по винтовой железной лестнице на второй этаж. Здесь было комфортабельно, стоял диван и два кресла. Бирк обратил внимание и на одежду Стауница. Он был в шубе, и из-под нее виднелись не модные в то время высокие шнурованные башмаки и галифе, а туфли с лакированными носами и брюки в полоску.
– Все пока в хаотическом беспорядке, – объяснил Стауниц, – но через неделю мы будем принимать клиентуру. Занимаемся сейчас мелкой продукцией – грабли, лопаты, топоры, и все-таки это не какая-нибудь дрянь вроде воротничков и манишек. Беда в том, что рубль – это нечто эфемерное, счет идет на миллионы, приходится постоянно следить за курсом золота, фунтов стерлингов, долларов на черном ринке…
«К чему он это мне рассказывает?» – думал Бирк.
– Роман Густавович, дипломатическая карьера – превосходная вещь, если дипломат принадлежит к аристократическому семейству, если он богат и состоит при посольстве великой державы. Насколько я понимаю, вы не удовлетворяете этим требованиям…

Сотрудник ЧК Владимир Стырне. Почтовая марка
– Меня удивляет… – обиженным тоном начал Бирк.
– Одну минуту. Мы наедине, и до сих пор я не сказал ничего опасного… То, что я хочу вам предложить, устроит не только вас, но и вашего дядю, который занимает более высокий, чем вы, пост в вашем посольстве. Я не предлагаю вам незаконную торговлю экспортным спиртом, это громоздкая операция… Но если хотите, пользуясь привилегиями дипломатов, уехать отсюда богатым человеком, слушайте меня.
– Если ничего противозаконного…
– Это как сказать. Кречинский в пьесе Сухово-Кобылина сказал: «В каждом доме есть деньги, надо уметь их взять». Если не в каждом, то в некоторых домах все же есть старушки, у которых в вазоне или в щели припрятаны чистейшей воды бриллианты. Менять на пшено сухаревским шакалам голубые бриллианты глупо, но старушки любят сладкое… словом, с нэпом пробудилась страсть к красивой жизни. Более того, я знаю, например, дом, где хранится подлинный Гвидо Рени, это уже пахнет десятками, если не сотнями тысяч фунтов стерлингов. Как вывезти? А для чего существует дипломатическая почта?












