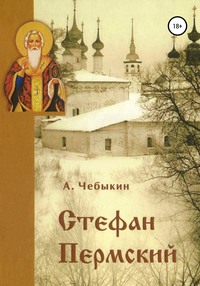полная версия
полная версияОт Алтая до Берлина
– Дорогие мои товарищи: бойцы, командиры! Мы выполнили приказ командования – высоту отстояли. Сами видите, с нее контролируется местность на несколько километров вокруг. Фашисты не остановятся ни перед чем, чтобы выбить нас. Для нас один приказ: сражаться до последнего. Бои идут в полутора километрах от нас, на второй линии обороны. Наши пушки выведены из строя, но стрелкового оружия предостаточно. Старшина Скребцов, с подбитых танков снять пулеметы и боеприпасы. Оба тоннеля углубить. Подготовить раненых к отправке, ночью будем выводить, пока нет сплошного фронта. Воду с фляжек слить и передать раненым.
К вечеру Скребцов доложил:
– В тоннелях дошли до кладки из камня.
Травин сказал:
– Кладку не трогать, это может быть захоронение вождя какого-то племени, после победы приедем вести раскопки.
Приковылял раненый сержант:
– Товарищ лейтенант, там внизу что-то журчит.
Травин, забыв про усталость, торопливо пошагал за сержантом.
Товарищ лейтенант, вот тут у кладки я лежал и слышал внизу шум воды.
Немедленно копать!
Метра через полтора наткнулись на куски обожженной глины, откопали трубу. Пробили в ней отверстие, а там бойко бежал ручеек. Травин приказал сделать запруду.
Черпали касками, котелками. Вода была ледяной и хрустальной. Травин догадался, куда исчез ручей впереди кургана. Значит, раньше люди жили тут оседло. Это крепостное сооружение. Кто делал керамические трубы? В Риме водопровод был в I веке, в Китае делали их на 1000 лет раньше. Значит, жили кочевники с высокой культурой земледелия, пришедшие с севера Китая. Травин позвал Скребцова и попросил: «Вот что, Федорович, наведи-ка тут порядок, организуй доставку воды. Заполни имеющиеся емкости. В котлах дырки забейте кляпами, заполните водой. Кухни разбиты. Раздать сухие пайки. Пусть варят в касках, в котелках, но люди должны быть сыты. На растопку пустите борта автомашин и будыли по оврагу. Огонь разводить осторожно. Маскировать. В окопах сверху накрывать плащ-палатками, шинелями. Проверю, чтобы ни одного огонька не видел. Варите, пока светло. Немцы скоро не очухаются. Нас тут боевых штыков пятьдесят семь человек, два десятка окруженцев подошло, но они истощены и обессилены. На них надежда плохая, все же в трудную минуту помогут, можно прибавить еще десяток легкораненых – все наше с тобой войско. Будем воевать. В трудную годину и родная земля против врага встанет. За тяжелоранеными чтобы был уход. Перед утром, когда немецкие посты будут дремать, поведешь ходячих раненых в тыл, тяжелораненых понесете столько, сколько сможете. Оружие с собой возьмете с полным боекомплектом. Если наскочите на немцев, в бой вступать по крайней необходимости и отходить, отходить к Волге. А сейчас – накормить людей и отдыхать».
После ужина Травин собрал оставшихся бойцов. Назначил вместо выбывших новых командиров взводов и отделений. В отделении осталось по три-четыре человека, а во взводах – десять-двенадцать. Травин предупредил: «Не расслабляться. После бессонных ночей и жестокого боя, бдительность терять нельзя. Замешкаешься – и фашисты, как курам на насесте, головы нам пооткручивают. До часа ночи спать, а после – подъем и бодрствовать. Не нравится мне эта тишина. Немцы не дураки, будут спешить, чтобы нас вышибить с высоты. Надо ждать ночной атаки… Какая она будет – неизвестно. Приказываю занять вторую и третью опоясывающие траншеи. В первой оставить дозоры. Быть группами по пять-шесть человек. Вооружиться немецкими автоматами и каждому по десятку ручных гранат. Саперные лопаты наточить как бритвы. В ближнем бою, в окопе, в темноте винтовки не пригодятся. На дальних подступах фашистов забрасывать гранатами. На ближних, при видимости – из автомата, а в соприкосновении – штыком, лопаткой и каской в рыло. Задача ясна? Не кваситься, мы победим!»
Поспав часа четыре, Травин пошел проверять посты. Некоторые клевали носом. Травин подходил и стучал ногтем по каске. Солдаты очумело вскакивали. Травин спрашивал: «Ну, что задремал? Считай, что фриц снял тебя ни за понюшку табаку и что напишут домой: пал смертью храбрых в бою, или что по слабости духа уснул, и немец пришлепнул. Вот то-то, вояка…».
По окопам быстро разнеслось: «Командир роты проверяет посты». Проснулись и те, кому было положено спать. Внизу встретил Скребцова.
– Александр Федорович, почему не отдыхаете?
Какой отдых, товарищ командир, вон сколько тяжелораненых. Если не вынести – не выдюжат. Спасать их надо. Носилок нет. Думаю тащить их на плащ-палатках. Другого выхода нет.
Действуй по обстоятельствам.
Около полуночи Скребцов прилег на бруствер окопа, решил хоть немного дать телу отдых. Задремал. Услышал шелест травы. Увидел по бурьяну двигающиеся фигуры. Оцепенел. Вскочил и уперся в грудь огромного здоровенного фашиста, от которого несло шнапсом, и закричал: «Полундра!» Немец опешил. Скребцов подпрыгнул, схватил немца обеими руками за затылок и ударил головой в морду. Фашист осел и повалился на пол. Застучали автоматные очереди. Скребцов крикнул: «К бою – фашисты!» Сражение шло по всему склону. Летели гранаты, были видны вспышки, затем глухие взрывы. Раненые дрались, кто чем мог: касками, лопатками. Скребцов схватил саперную лопатку и наотмашь сек фашистов справа и слева, думая, что сейчас его полоснут из автомата. Фрицы действовали ножами, как их учили, боясь в бою перестрелять своих. Когда около Скребцова никого не оказалось, раздалась автоматная очередь. Скребцов видел, как фашист с рассеченным плечом, с левой руки стрелял в него из автомата. Бой длился не более получаса. Несколько фашистов убегали с сопки.
Травин с перевязанным правым плечом, держась за доску от кузова машины, отдавал указания. По радио поступило сообщение: «Высоту покинуть, на кургане оставить наблюдателей с рацией. Раненых забрать и прорываться».
К Травину подвели пленного офицера. Немец знал лишь несколько русских слов, но Травин немецким языком владел хорошо, в школе имел отличные оценки, а в пединституте Шиллера и Гете читал без словаря. Оберлейтенант рассказал, что их штрафной роте была поставлена задача ночью взять высоту. Предупредили, если высоту не возьмут, оставшихся в живых – расстреляют. Они не ожидали такой организованной обороны и мощного отпора. Гибли в основном от ручных гранат. Фашист удивился, когда увидел защитников – два десятка солдат, которые отходили на восток, таща на себе тяжелораненых. Немец указал направление свободного прохода между мин. Травин спросил: «Что будем делать с пленным? Он нам дарит жизнь, указывая балки, по которым молено пройти. Мы не можем ответить тем же – пусть решает его судьбу немецкое командование, но к нему просьба: стаскать своих убитых в промоину и присыпать землей, днем на жаре трупы будут смердить. Хотя и звери они, но Всевышний заповедовал усопших предавать земле. Простите меня, воины!» Командир взял горсть земли с холма, под которым лежали его братья по оружию, и высыпал ее в карман гимнастерки.
В марте месяце 45-го года в госпитале для тяжелораненых города Подольска на соседних койках оказались старшина Александр Скребцов и майор Анатолий Травин. Травина готовили к повторной операции – ампутации ноги. Рана гноилась. Надо было спасать жизнь. Но Травин шутил: «Буду жив – и на одной ноге попрыгаю!» Долго приглядывался к соседу по койке. Бледное лицо с орлиным носом было очень знакомо: шрам на брови, глубокие вмятины на правой и левой щеке. Поинтересовался: «Служивый, где-то я вас видел. Случайно под Сталинградом на высоте 371 не встречались?»
– Встречались. Слышу, голос знакомый, а узнать не могу. Лицо у вас обгорело да звание другое – майор.
Травин попросил пододвинуть кровать к Скребцову, обнимая, захлебываясь словами, говорил: «Это же мой старшина роты, Скребцов Александр Федорович».
По лицу Скребцова покатились две крупные слезинки.
– Отвоевался я, товарищ майор. Очень хочется дожить до дня Победы. Истосковался я по детям. Наверное, уже большие. Старшему Мише – пятнадцать, Марии – четырнадцать, Валентине – восемь, а Олюшке – шесть. Уходил – ей два годика было. Как две капли воды – моя копия, даже носик бубочкой вниз, твердохарактерная будет. Перед войной я председателем колхоза был, зажиточно жили. Война началась – напрашивался на фронт, опыт войны был, жаль было, как необстрелянных желторотых отправляли на фронт. На председателей колхоза была бронь. В 42-м году, в июле, когда немец прорвал фронт на Дону, тогда с ходу попал в эту мясорубку.
Где вы, товарищ майор, пропадали?
После высоты «371» три месяца в госпитале провалялся не так из-за раны, как нервишки сдали. Дергало меня, как сито в веялке. Потом отправили в танковое училище. Весной 43-го выпустили, потом Курская дуга. Участвовал в танковом сражении под Прохоровкой, там и обгорел. «Тигр» саданул в бок моей машине, не успел увернуться. Но я в долгу не остался. Свой горящий танк в лоб «тигру» направил. Спасибо, ребята соседнего экипажа вытащили. Мой погиб полностью. Полгода провалялся в госпитале. В 44-м году, как грамотного, отправили на курсы переподготовки офицерского состава. После учебы служил при штабе третьего Украинского фронта – офицером по связи. Александр Федорович, видишь, даже морду наел.
В чинах, при высокой должности, как же вас угораздило снова в госпиталь попасть?
Это в Чехословакии под бомбежку попал. Штабную машину в щепки, а я вот с осколками мучаюсь. Вытаскивают потихоньку. Федорович, а как вы сюда попали?
Тогда на высоте «371» фашист всадил в меня две пули в правое плечо. Одна задела легкое. Отлежался в госпитале более полугода. Летом 43-го года тоже попал на Курскую дугу. Был и под Прохоровкой. Удивляюсь, как не встретились. В одной танковой армии были. Много раз сватали, хотели отправить на командирские курсы. И грамотешки предостаточно. Сельхозтехникум перед войной на отлично закончил, правда, заочно. Голова до войны варила хорошо. Но я привык колхозом руководить, поэтому считал, что старшинская должность самая подходящая для меня. Думаю, если в роте толковый старшина – жить без беды. Что солдату надо? Чтоб был обут, одет по сезону, вымыт в бане, вовремя накормлен, тогда солдат воюет и воюет сноровистее, настырней. Вот в Венгрии и под Балатоном меня сильно помяло. Контузило и осколками иссекло: и в грудь, и в живот, и в печень. Какая-то ядовитая сталь. Крупные осколки повытаскивали, а мелкие остались и ходят по телу. Покоя нет. Изнемогаю я. Отвоевался. Очень хотелось детей на ноги поднять, выучить, вырастить. Сиротами останутся. Жена моя, Александра Ивановна, казачка настоящая. Раскрасавица, в темно-русых кудрях ее можно запутаться. Глаза словно озера горные – голубые. А певунья какая! Как запоет – станица утихает. Из одного конца в другой слышно. Тоскую по ним сильно. Жена пишет – на крыльях бы прилетела, да куда ей от малышни. Не хотелось, чтобы она видела меня беспомощного. Пусть помнит молодого, задиристого, красивого. Товарищ майор, будете на Ставрополыцине, заскочите в Старомарьевку, навестите родителей, расскажите им, что честь свою не уронил, воевал, как положено казаку.
В первых числах мая майора Травина увезли на операцию, когда вернулся – койка Скребцова была пуста.
Травин позвал сестру: «Сестричка, попроси у врача 100 граммов спирту, помянуть надо друга и воина, чистого и светлого человека».
Нельзя вам после операции.
А отбивать в день по десять атак, хоронить десятки бойцов, гореть в танке – можно? Тащи, сестра, не береди душу.
Зашел главврач с графином.
– Я развел, как положено. Вам чистого нельзя. Слабые еще. Ну, где ваши кружки?
Раненые застучали дверцами тумбочек. Разлили.
– Дорогие товарищи, взят рейхстаг. До Победы осталось два-три дня. Жалею, что многие не дожили до нее. За них, павших, за их победу…
Пути – дороги
Встреча
Станция Григорьевская. Снуют электрички. Шестипутка. На последнем пути более месяца стоит состав с цистернами. Чтобы попасть на электричку, надо погорбатиться под вагонами. Вылазишь – спина и руки в мазуте. Тороплюсь на электричку до Менделеево. Выползаю из-под вагона – навстречу от перрона вокзала мчится огромная овчарка. Струхнул, смотрю, на шее ошейник, значит не бездомная и есть хозяин. Видимо, пришла встречать кого-то с электрички.
Собака делает вокруг меня круги, крутит хвостом, тычется мордой в ноги. Прикрываюсь портфелем. Перешел пути. Взобрался на платформу. Пес не отступает. Заглядывает в лицо. Вспоминаю – неужели это Миг. Лет семь назад, когда приезжал сюда, у племянницы проживала молодая овчарка-щенок. Держали на привязи. Каждый год, по приезду, хожу километров за семь в родную деревню. Обычно двигаюсь на своих двоих. К родному очагу, к святыне надо идти пешком. В этот раз меня сопровождал Миг. После сидки на цепи для него поход – это свобода, это радость неописуемая. От счастья прыгает вверх, забегает от тропы в сторону, ловит кузнечиков, валяется в густой траве. Удовольствие щенку неописуемое. Дороги в деревню нет. Заросла березняком и осинником. Когда-то проезжала автомашина и примяла траву, по ее колее проложена тропинка. Дошагали до прудика, в верховьях Большой Северный дружок мой бросился в воду, заросшую камышом. Долго бултыхался. Еле-еле дозвался. Вылез мокрый, лег около ног, поднял морду. Глаза говорят: «Давай передохнем, нахлюпался». Пришлось достать горбушку хлеба из сумки. Отломил кусочек себе. Остальное отдал ему. Миг ел не спеша, слюна стекала по бокам щек. Съел, поднялся, отряхнулся, давая понять, что можно двигаться дальше. Дошли до родной деревушки, которой уже нет. На усадьбах одиноко стоят березки, рябины, черемухи, да две огромные липы на краю нашей усадьбы. На месте дома лет пять назад нагребли бульдозерами огромный холм, высотой метров десять. Холм зарос малиной, смородиной, диким хмелем и крапивой. Взобрались, приминая крапиву. Мой дружок изжалил брюхо. На вершине холма заскулил. Пришлось обтирать брюхо водой из фляжки. Покричал с холма, называя поименно дедов и прадедов, родных и близких, которых уже нет в живых, зная, что их души витают над своими усадьбами и заброшенными пепелищами. Не слышно в деревне кудахтанья кур, блеяния овец, хрюканья свиней, мычания коров, ржания лошадей, щебета молодых скворцов, шума и возгласов детских голосов. Не пахнет зажаристыми шанежками и пирогами, свежеиспеченным хлебом нового урожая, скошенным сеном, истопленными баньками. Тихо, пусто и тоскливо кругом. Над деревенским косогором только слышен шелест листьев черемух. Сотворив «Отче наш», поклонился елочке, растущей на вершине холма «Памяти».
Спустился, обнял старые липы. Просил их, чтобы родная земля дала мне здоровья, чтобы судьба позволила навестить еще не раз родные места, где прошло мое детство. Прошли под взгорок, в ложбинку, к ручью, из которого таскал воду на гору для полива огорода. Испили нежную, мягкую, прохладную водичку из сруба. Эту водичку я с наслаждением пил и утолял жажду, когда в детстве возвращался из леса с ягодами и грибами.
На обратном пути Миг убегал далеко вперед, потом терпеливо ждал меня. Я догонял его, гладил загривок, трепал за ухо, приговаривая: «Да какой же ты умница, не бросишь меня, старого деда».
Когда приехал на другой год, племянница Люба посетовала, что Миг убежал. Сейчас, видя его, вспомнил мельчайшие подробности нашего хождения в родную деревню.
Я обнял его, прижал к груди и говорил, говорил ласковые слова: «Родной мой, дружочек, верный мой спутник. Столько лет прошло и ты вспомнил, узнал меня».
Миг привстал на задние лапы, передние положил мне на плечи. Заливаясь звучным нежным лаем, стал лизать шею и преданно смотреть радостными глазами. Ожидающие электричку окружили нас. Заговорили разом: «Он узнал Вас и признается в своей нежности и верности».
Подходила электричка. Я заскочил на ступеньки, Миг пытался запрыгнуть ко мне. Я просил его: «Миг, не надо, иди домой». Двери вагона закрылись. Миг, подскуливая, долго бежал рядом с вагоном. Сердце мое сжалось. Я стоял и думал: «Господи, столько лет прошло, а он не забыл нашего похода, в памяти собачьей осталось тепло и ласка того дня».
Потеря
В Прикамье перед войной шла жестокая борьба с самогоновареньем. Мужики говорили: «Варить кумышку», наверное, от слова кумыс. Бабы в основном делали хмелевую брагу: сытно и радует. Только к праздникам варили пиво, которое настаивали на изюме. Славное получалось пиво: забористое и веселое. Переводить зерно на самогон считалась грехом. Слишком тяжело доставался крестьянину хлебушко на Северном Урале. Если и делали к свадьбе, то на перегон шла картошка и свекла и морковь. Если готовился самогон на пьянку или на продажу, то быстренько доносили в сельсовет. Приезжал милиционер, депутат с председателем колхоза и производили досмотр. Обычно аппарат ломали, самогонку выливали, хозяина штрафовали и брали подписку, что более не будет заниматься этим ремеслом.
Но если варилось к свадьбе или рождению ребенка, в деревне считали – это святое дело и гулять будут от мала до велика. Хоть пытай – не скажут. Марфа Трухина из деревни Капустята была на сносях. У Капитона во дворе, на виду, бурлила, вздыхала и охала большая железная бочка. Мужики вечерами наведывались, спрашивали: «Капитон, как там – скоро, а то нутро давно просит». Капитон, степенный мужик, с темно-русыми волосами, стриженными под кружок, крупным носом, оттопыренными ушами, поджимая губы ехидно отвечал: «Надоели вы мне, можете сглазить, не волнуйтесь. У меня и капля не пропадет, потерпите, ваше будет». Мужики обходили чан кругом, нюхали. Глаза соловели, думали про себя: «Ну быстрей бы Марфа разродилась, вдруг какая беда случится, тогда и первач не попробуешь».
Марфа, поджарая баба с карими глазами навыкате, лицом, покрытым конопушками, поддерживая огромный живот, хлопотала с кумой во дворе по хозяйству. Марфа с кумой неразлучны. Выросли на одной улице, погодки. Привязались друг к другу с детства.
Капитон успокаивает мужиков: «Сегодня начну гнать, утром приходите пробовать первач».
Марфа кричит: «Капитоша, фельдшерица приходила, в село завтра утром ехать в больницу. Предупредила, если не поеду, то составит акт. Надо ехать. Я и сама побаиваюсь дома оставаться, вона какой живот, вдруг тройня. Слышу стук стоит в животе, наружу дите просится. По подсчетам пора».
Капитон, улыбаясь: «Меня в сенях родили, а тебя в конюшне – ничего, до сих пор живой».
Марфа отвечала с недоумением: «Капитон, разве ты забыл – твоя мать при родах кровью изошла. В нашей семье из восемнадцати до взрослости только шестеро выросли. В больницу больных детей нести боялись. Пугали – там уколами исколют».
– Ну ладно, ладно, раскудахталась. Отвезу тебя завтра в больницу.
Три дня и три ночи Капитон отлаживал свой аппарат. Мутная жидкость наполняла четверти (трехлитровые бугылки). Мужики наседали по утрам. Капитон давал попробовать с ладони и более ни-ни. Убеждал: «Потерпите, изопьем вино, а вдруг баба не разродится. Не могу грех на душу брать».
На четвертый день рано утром, на взмыленном жеребце прискакал бригадир и передал: «Капитон, Марфа разродилась. Сын у тебя, поезжай за роженицей». Куда поедешь, дело не бросишь. Запряг лошадь, усадил куму. В пестер установил трехлитровую бутыль и наказал: «Смотрите мне, не угощайтесь сами. Дите не погубите. Это для докторов». Кума по дороге раза два прикладывалась. К больнице подъехала веселенькая. С пестерем прямо в родильное отделение, к заведующей. Та руками замахала: «Что вы, что вы, мы на работе, нам нельзя». Слух, что приехали с бутылью самогона за дитем, разлетелся по больнице мгновенно. Когда кума вышла в коридор, ее окружили нянечки – где-то достали кружку и полбулки хлеба. Марфа наливала по половинке – угощала и давала по кусочку хлеба, приговаривая: «Закусывайте, без закуси нельзя, оно сильно крепкое». Когда осталась одна треть, кума заторопилась, приговаривая: «Все, бабоньки, оставим маленько роженице и начальству». Забежала с кружкой в палату, закудахтала: «Марфуша, с прибавлением тебя, запереживалась за тебя. На, маленько испей».
– Можно причаститься, такого богатыря родила. Четыре с половиной килограмма. Уж поорала я. Подожди во дворе, выписывают после обеда, иди, сейчас дите кормить буду.
После обеда Марфу с кумой провожали всей больницей. Помогли усадиться в телегу. Кума покачивалась, да и Марфа была навеселе. Дите уложили на соломку. Подружки на радостях добавили еще понемножку и в обнимку с песнями покатили домой, держа пестерь с остатками самогона под боком. Когда отъехали от городка, кума предложила: «Марфа, не повезем же бутыль обратно. Капитон велел отдать больничным, как подарок, за уход и присмотр. Выливать остатки жалко. Давай на лужайке под березкой посидим маленько». Выбрали пригожее место. Остановили лошадь. Нарвали травы, чтобы не ушла. Спящего ребенка взяли с собой, положили в тенечке. Попевая песни, незаметно опорожнили бутыль. Пошатываясь, поддерживая друг друга уселись в телегу. Понукивая лошадь, распевая песни во всю Ивановскую, двинулись домой. Во дворе Капитона толпились мужики. Некоторые с кружками стояли в очереди, ждали, пока наполнится до краев пахучая жидкость. Прихватывали нос и залпом выпивали. Двое мужиков, громко похрапывая, устроились под забором. Бабы с ребятишками толпились за воротами. В деревне праздник – у Капитона родился сын.
Прибежал соседский мальчик и сообщил: «Едут, едут!» Повозка медленно подъезжала ко двору. Марфа с кумой, не обращая никакого внимания, продолжали ухать песни. Капитон вышел встречать сына с хлебом-солью. Подружки, поддерживая друг друга, сползли с телеги. В обнимку направились к Капитону. Капитон передал каравай хлеба теще, подбежал к телеге. В телеге никого не было. С перепугу перетряс сено. Дитя не было … Подбежал к бабам и стал обоих трясти за плечи и заорал: «Сын где? Спрашиваю, сын где? Вы что, его потеряли? Где?» Бабенки перетрухнули, хмель стал быстро улетучиваться из головы. Кума завопила: «Прости нас, Капитон. Там за деревней, под березкой, на травке остался».
Капитон схватил кнутовище и стал обеих по очереди стегать, пока не разорвался ремень, а затем не обломалось кнутовище. Развернул лошадей, нахлестывая, поскакал за деревню. Сын, насосавшись молока с примесью алкоголя, тихо посапывал под березой. Марфа год с кумой не разговаривала, обвиняя ее, что она ее подпоила.
Аркадий подрастал, его тянуло к музыке, наверное, в подсознании отложились звуки леса, шелест трав и пение птиц, когда он лежал под березкой. В двадцать один год стал известным музыкантом, сочинял музыку. Но наличие алкоголя при рождении сказалось на его судьбе. Начались запои. И только к сорока годам победил этот недуг, наследственность твердой воли отца взяла верх. Опомнился, стал с проклятием относиться к спиртному. До сих пор жалеет о потерянных впустую двадцати самых дорогих годах жизни. Сейчас наверстывает упущенное. Песни Аркадия Трухина, из деревни Капустята, распевают в Прикамье.
Вызов
Прикамье, крещенские морозы леденят воздух. Метет поземка. В трубе завывает ветер. В доме выстыло. Я растапливаю печь. Дым неохотно тянется к устью трубы – печь промерзла. Дом, в котором я родился и провел детство, одиноко стоит на пупке косогора.
Когда-то деревня была большой, но теперь от нее остался один наш пустующий дом. Обычно приезжал на родину летом. Оставлял вещи на станции, у сестры, и спешил к родному очагу за семь километров. Родителей давно уже нет. И никто меня не встречал и не провожал у калитки. Приводил в порядок изгородь вокруг дома, поправлял крышу, вставлял в окна выбитые стекла, очищал тропинку к ключику. Усадьба оживала. Топил баню и с удовольствием хлестался свежим березовым веником. Наслаждался звенящей тишиной. Вечерами любовался закатами солнца и горевал, что жизнь в доме иссякла. Не стало деревни, не стало родителей. Из всей большой родни осталась сестра Танюша и та в этом году приболела, вот и приехал ее навестить, зимой, на ее день ангела. Но родной дом тянул к себе с неимоверной силой. Взял лыжи у племянника и прикатил к своей обители.
Наконец печь растопилась, яркие огоньки пламени побежали по поленьям. В чело ходко потянулся дым. За окном, учуяв жизнь в доме, на обмершей яблоньке защебетали яркогрудые снегири. Я покрошил хлеба на фанерку и вынес под окно. Птахи толкали друг друга, склевывая крошки, остальное сдувал ветер в рыхлый снег. Я вытащил ломоть хлеба. Птицы дружно обклевывали его, но мороз быстро сковал его. И приличный кусок остался недоеден пернатыми друзьями. На закате солнца, я заметил, притулившись к раме сидел крупный заяц, держал в лапах мерзлую горбушку, старательно ее грыз. Окончив трапезу, он не отходил от окна. Я вынес корочку и положил у угла дома. Заяц спокойно сидел и наблюдал за мной. Зайдя в дом, я увидел через проталины окна, как заяц ухватил хлеб и поскакал в сторону осинника. Так продолжалось три дня, хлеб закончился и пришлось сходить на станцию. Днями, на лыжах, я обходил окрестности, прошел по тем местам, где когда-то со сверстниками, во время каникул, катались с горок.