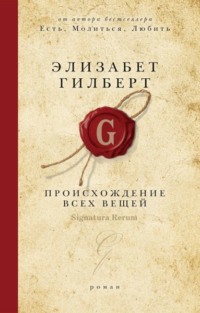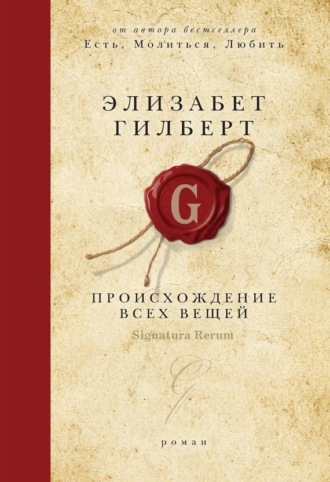
Полная версия
Происхождение всех вещей
Дети прислуги боялись Альму не меньше, чем она их. Они никогда к ней не приближались. Возможно, их предупредили, чтобы они ее не трогали. Все боялись Генри Уиттакера, и, видимо, этот страх автоматически распространялся и на его дочь. Но иногда, отойдя на безопасное расстояние, Альма шпионила за этими детьми. Их игры были примитивны и непонятны ей. Они одевались совсем не так, как Альма. Никто из них не носил на плече набора для коллекционирования гербариев, и никто не ехал на пони с разноцветными шелковыми кисточками, как Альма. Эти дети кричали друг на друга, выражаясь грубо. Альма боялась этих детей больше всего на свете. Они часто снились ей в кошмарах.
Но для борьбы с кошмарами у нее было средство: она вставала и искала Ханнеке де Гроот, которая жила в погребе. Иногда это помогало и успокаивало ее. Ханнеке де Гроот, старшая над слугами, заправляла всей вселенной «Белых акров», и власть наделяла ее аурой спокойной незыблемости. Ханнеке спала в личных покоях рядом с подвальной кухней; там, внизу, огонь в очаге никогда не гас. Она жила в облаке теплого подземельного воздуха, пропитанного солеными окороками, свисавшими со всех стропил. Ханнеке жила в клетке – так, по крайней мере, казалось Альме, так как в покоях Ханнеке на окнах и дверях были решетки, ведь именно Ханнеке знала, где хранится серебро и фарфор, и выдавала жалованье всему штату слуг.
«Я не в клетке живу, – как-то поправила она Альму, – а в банковском сейфе».
Когда Альме не спалось из-за кошмаров, она иногда собиралась с духом и предпринимала спуск по темной лестнице, хоть ей и было страшно; преодолев три пролета, она оказывалась в самом нижнем углу погреба и там, вцепившись в решетку, отгораживавшую покои Ханнеке, кричала, чтобы ее впустили. Исход подобных вылазок всегда был непредсказуем. Бывало, Ханнеке вставала, сонная и недовольная, и отпирала дверь своей темницы, разрешив Альме лечь к себе в кровать. Но иногда Альме никто не открывал. Порой Ханнеке ругала ее, говорила, что та уже не маленькая, и спрашивала, с какой стати она донимает старую, измученную голландку, а потом заставляла Альму подниматься назад в детскую по страшной темной лестнице.
Но в тех редких случаях, когда Ханнеке все же пускала ее в свою постель, это стоило остальных десяти, когда ее прогоняли, ведь Ханнеке рассказывала ей истории, а сколько всего она, Ханнеке, знала! С матерью Альмы они были знакомы сто лет, с самого раннего детства. Ханнеке рассказывала об Амстердаме такое, чего сама Беатрикс никогда бы не рассказала. И всегда говорила с Альмой только на голландском, поэтому голландский для Альмы навеки стал связан с уютом и банковскими сейфами, солеными окороками и безопасностью.
Альме ни разу не пришло в голову бежать ночью за утешением к матери, чья спальня была за стеной.
* * *А еще в «Белые акры» приезжали гости – непрерывная процессия гостей, прибывающих почти каждый день в повозках, верхом, по реке или пешком. Отец Альмы страшно боялся заскучать, вот и приглашал людей к обеденному столу, чтобы те развлекли его, поведали новости со всего мира или поделились идеями для новых предприятий. Генри Уиттакеру стоило лишь позвать кого-нибудь в гости, и те приезжали, причем говорили ему за это спасибо.
«Чем больше у тебя денег, – объяснил он Альме, – тем вежливее становятся люди. Удивительно!»
К тому времени денег у Генри была уже целая куча. В мае 1803 года он заключил контракт с человеком по имени Израэль Уэлен, чиновником, который заведовал медицинским обеспечением экспедиции Льюиса и Кларка по Америке. Генри предоставил экспедиции обширные запасы ртути, лауданума, ревеня, опиума, корня каролинской фразёры, каломели, рвотного корня, свинца, цинка и соли серной кислоты; лишь некоторые из этих снадобий действительно могли пригодиться для лечения, но все без исключения были товаром прибыльным. В 1804 году немецкие фармацевты впервые выделили из мака морфий, и Генри одним из первых вложил деньги в производство этого эффективного средства. В следующем году он заключил контракт на поставки медикаментов для американской армии. Теперь он пользовался определенной долей политического влияния и доверием в обществе, поэтому гости и стекались на его ужины.
Эти ужины ни в коем случае нельзя было назвать великосветскими приемами. Уиттакеров так и не приняли в узкий и избранный круг – филадельфийский высший свет; впрочем, они и не пытались туда попасть. После приезда в город Уиттакеров всего раз пригласили отужинать у Анны и Уильяма Бингемов на углу Третьей и Еловой улиц, но визит прошел неудачно. Когда подали десерт, миссис Бингем, которая держалась так, будто дело было при дворе в королевской резиденции, обратилась к Генри:
– А что за фамилия – Уиттакер? Довольно редкая.
– Родом из английских центральных графств, – отвечал Генри. – Происходит от слова «Уорикшир».
– Значит, ваше родовое поместье в Уорикшире?
– Там… и еще много где. Мы, Уиттакеры, везде поместимся, куда влезем.
– Но ведь у вашего отца все еще есть владения в Уорикшире, так, сэр?
– Владения моего отца, мадам, коли он еще не сдох, – две свиньи да ночной горшок под кроватью. А вот на саму кровать, боюсь, он так и не накопил.
Больше Уиттакеров отужинать с Бингемами не приглашали. Но их это не слишком огорчило. Беатрикс не одобряла светские беседы и наряды модных дам, а Генри тяготили занудные манеры обитателей Риттенхаус-сквер[13]. Вместо этого Генри создал свое общество на другом берегу реки, в своем доме на холме. За столом в «Белых акрах» не обменивались сплетнями, а упражнялись в интеллектуальных играх и коммерческой смекалке. И если в мире был человек, занимавшийся каким бы то ни было интересным делом, Генри желал видеть его у себя. Случись так, что в Филадельфии гостил заезжий старый философ, великий ученый или дерзкий юный изобретатель, их тоже приглашали. Иногда здесь бывали и женщины, но только если им посчастливилось быть супругами великих ученых, переводчицами важных трудов или интересными актрисами, совершающими турне по Америке.
Не всякому был по плечу ужин у Генри. Стол ломился от яств – там были и устрицы, и бифштекс, и фазаны, – но времяпровождение в «Белых акрах» отнюдь не всегда было приятным, и Альма убедилась в этом, когда еще ходила пешком под стол. Гостей здесь подвергали дотошным расспросам, провоцировали, их мнения оспаривали. Людей, бывших не в ладах друг с другом, сажали рядом. В беседах за столом, больше напоминавших боксерский ринг, чем вежливое общество, посягали на самое святое. Кое-кто из гостей покидал «Белые акры» с чувством, что ему нанесли страшное оскорбление. Другие – более умные, толстокожие или более отчаянно нуждавшиеся в покровительстве – уезжали, заключив прибыльные контракты, вступив во взаимовыгодное сотрудничество или просто получив необходимое рекомендательное письмо к какой-нибудь важной шишке. Обеденный зал в «Белых акрах» был опасным полем для игр, но победа могла обеспечить гостю карьеру на всю жизнь.
Альма была желанным гостем этих застольных войн с четырех лет, и ее часто сажали рядом с отцом. Ей разрешали задавать вопросы, но только не глупые. Некоторых гостей ей даже удалось очаровать. К примеру, эксперт по симметрии молекул однажды заявил: «Да ты умна, как энциклопедия!» Его комплимент запомнился Альме на всю жизнь. Но другие великие ученые не привыкли, чтобы их допрашивали маленькие девочки. Правда, как заметил Генри, если некоторые великие ученые не способны были отстоять свои теории перед маленькой девочкой, то вполне заслуживали самого позорного разоблачения.
Генри верил – и Беатрикс всячески его в этом поддерживала, – что ни один предмет, сколько бы серьезным, сложным или шокирующим он ни был, нельзя посчитать неподходящим для обсуждения в присутствии их дочери. Беатрикс рассуждала так: даже если Альма не поймет, о чем речь, это лишь побудит ее дальше развивать свой интеллект, чтобы в следующий раз не остаться в стороне от обсуждения. Если же у Альмы не находилось добавить ничего умного, Беатрикс научила ее улыбаться последнему высказавшемуся и вежливо и тихо произносить: «Прошу вас, продолжайте». Случись ей заскучать за столом, это никого не волновало. Ужины в «Белых акрах» затевались не для того, чтобы развлекать детей (по правде, Беатрикс Уиттакер считала, что в жизни вообще ничего не стоит затевать ради того, чтобы развлекать детей), просто Беатрикс придерживалась мнения, что чем скорее Альма научится сидеть на жестком стуле на протяжении нескольких часов подряд и внимательно слушать разговоры, неподвластные ее пониманию, тем для нее лучше.
Так и вышло, что Альма Уиттакер провела свои ранние детские годы, слушая удивительные рассказы самых разных людей: и тех, кто изучал особенности разложения человеческих останков; и тех, кто задумал наладить импорт новых превосходных бельгийских пожарных шлангов в Америку; и тех, кто делал иллюстрации самых чудовищных уродств для медицинских энциклопедий; и тех, кто полагал, что любое лекарство, которое можно проглотить, с аналогичным эффектом можно втирать в кожу и оно, впитавшись, принесет облегчение; и тех, кто исследовал органическое вещество в сероводородных источниках… Альма однажды даже познакомилась с экспертом по легочной функции водоплавающих птиц (предмет, по его словам, куда более захватывающий, чем любой другой в мире, хотя, если судить по его зануднейшему докладу за столом, это было не совсем так).
Надо сказать, что порой эти ужины действительно становились для Альмы развлечением. Больше всего ей нравилось, когда к ним в гости приезжали актеры и первооткрыватели и рассказывали захватывающие истории. Нередки были и вечера, когда за столом велись напряженные споры. А порой ужин превращался в пытку и навевал нескончаемую скуку. Бывало, девочка засыпала за столом с открытыми глазами, держась на стуле прямо лишь потому, что жутко боялась материнского порицания, и благодаря жесткому корсету нарядного платья. Но один вечер Альма запомнила навсегда – потом он стал казаться ей самым прекрасным моментом ее детства, – вечер, когда в «Белые акры» приехал итальянский астроном.
* * *Это случилось в конце лета 1808 года, именно тогда Генри Уиттакер купил новый телескоп. Любуясь ночным небом через превосходные новые немецкие линзы, он почувствовал себя профаном в астрономии. Конечно, Генри знал звездное небо, как положено мореплавателю, то есть совсем неплохо, но был не осведомлен о последних открытиях. Ведь в изучении астрономии в то время происходили огромные сдвиги, и ночное небо все чаще представлялось Генри очередной библиотекой, книги из которой давались ему с трудом. Поэтому, когда великий итальянский астроном Марианетти прибыл в Филадельфию, чтобы выступить с лекцией в Философском обществе, Генри заманил его в «Белые акры», закатив бал в его честь. Он слышал, что Марианетти души не чает в танцах, и решил, что перед приглашением на бал тот точно не устоит.
Этот бал должен был стать самым роскошным приемом, который когда-либо устраивали Уиттакеры. После обеда в поместье прибыли лучшие в Филадельфии кулинары – негры в крахмальной белой форме – и принялись водружать друг на друга ярусы воздушных меренг и смешивать разноцветные пунши. Тропические цветы, что никогда раньше не покидали пределов теплых оранжерей, расставили в кадках по всему дому. Затем в бальной зале вдруг замелькали недовольные незнакомцы – музыканты из оркестра; они настраивали инструменты и жаловались на жару. Альму отмыли и упаковали в белые кринолины, а петушиный гребешок непослушных рыжих волос увязали атласным бантом размером почти с ее голову. Потом приехали гости – напудренные, нарядные, окутанные волнами шелка.
Было жарко. Зной стоял весь месяц, но такого, как в тот день, еще не было. Предвидя неудобства, связанные с погодой, Уиттакеры наметили бал на девять вечера, когда солнце давно уже скрылось, но в воздухе все еще стояла изнуряющая жара. В бальном зале скоро стало, как в теплице, влажно, окна запотели, и тропическим цветам это пришлось по вкусу, но дамам – нет. Оркестранты потели и мучились от духоты. В поисках спасения гости высыпали на улицу и расположились на верандах, прислонившись к мраморным статуям в тщетной надежде, что камень поделится с ними прохладой.
Пытаясь утолить жажду, все выпили куда больше пунша, чем намеревались. И – естественное следствие этого – позабыли о стеснении; всеми овладело легкомысленно-веселое настроение. Оркестранты покинули помпезный бальный зал и шумной толпой расселись на большой лужайке у дома. На улицу вынесли лампы и факелы, и лица гостей озарились неистовыми пляшущими тенями. Великий итальянский астроном попытался обучить филадельфийских джентльменов сложным неаполитанским танцевальным па и не оставил без внимания ни одной дамы. Все гости нашли Марианетти забавным, дерзким и великолепным. Он даже попытался станцевать с неграми кулинарами, насмешив всех до колик.
В тот вечер Марианетти должен был прочитать лекцию по астрономии, поведав гостям об эллиптических орбитах и скоростях планет и сопроводив ее сложными схемами и рисунками. Но в какой-то момент от этой идеи отказались. Разве может столь разгулявшееся сборище сидеть спокойно и внимать серьезной научной лекции?
Альма так и не поняла, кому пришла в голову эта идея – Марианетти или ее отцу, – однако вскоре после полуночи было решено, что знаменитый итальянский маэстро космологии воссоздаст модель Вселенной на большой лужайке «Белых акров», используя в качестве небесных тел тела самих гостей. Модель будет не совсем достоверной, провозгласил подвыпивший астроном, но хотя бы в общих чертах познакомит дам с жизнью планет и их расположением относительно друг друга.
С потрясающим апломбом ученого и комика Марианетти водрузил Генри Уиттакера – Солнце – в центр лужайки. Затем созвал остальных джентльменов, которые должны были изображать планеты, располагаясь на некотором расстоянии от хозяина сегодняшнего торжества. К безмерному веселью всех собравшихся, Марианетти попытался отобрать мужчин, габаритами напоминавших бы точный размер планет, которыми они являлись. Меркурием стал невысокий, но исполненный достоинства торговец зерном из Джермантауна. Поскольку Венера и Земля должны были быть примерно одного размера, но больше Меркурия, Марианетти выбрал на их роли двух братьев из Делавэра – людей почти одинакового роста, конституции и наружности. На роль Марса необходимо было найти кого-то крупнее торговца зерном, но все же не столь дородного, как братья из Делавэра; известный банкир пришелся как раз кстати. Юпитером Марианетти назначил отставного капитана морского судна, до того комичного толстяка, что одно лишь появление его грузной фигуры в Солнечной системе заставило всех присутствующих зайтись истеричным хохотом. Что до Сатурна, эту роль отлично сыграл чуть менее тучный, но все же забавный пузатый газетчик.
И так продолжалось до тех пор, пока все планеты не заняли свои места во дворе на должном расстоянии от Солнца и друг от друга. Затем Марианетти заставил их кружиться по орбитам вокруг Генри, старательно пытаясь сделать так, чтобы каждый из перебравших джентльменов не сбился с правильной небесной траектории. Вскоре дамы тоже захотели присоединиться к веселой игре, и Марианетти расставил их вокруг мужчин, назначив спутниками, и запустил каждый спутник по собственной узкой орбите. (Матери Альмы досталась роль Луны, которую она сыграла с холодным лунным блеском.) Затем на краю лужайки маэстро воссоздал созвездия из звезд, коими избрал самых прекрасных юных девушек.
Оркестр снова заиграл, и стало казаться, что ансамбль небесных тел исполняет самый великолепный вальс из всех, что когда-либо видели славные жители Филадельфии. В центре всего этого стоял и сиял Генри Уиттакер, король-солнце, с волосами цвета пламени, а вокруг него вращались мужчины, большие и маленькие, в то время как женщины описывали круги вокруг них. В дальних же уголках Вселенной, загадочные, как неизведанные галактики, мерцали созвездия незамужних девушек. Марианетти взобрался на высокую живую изгородь и, пошатываясь и рискуя упасть, дирижировал всей постановкой, выкрикивая в ночи:
– Не теряйте скорость, господа! Дамы, не сходите с траектории!
Альме захотелось к ним. Она еще никогда не видела ничего столь захватывающего. Обычно так поздно ночью девочка всегда была в постели, но сегодня в веселой суматохе о ней как-то забыли, и никто не уложил ее спать. На этом балу она была единственным ребенком – впрочем, всю свою жизнь она была единственным ребенком на подобных сборищах. И вот Альма подбежала к изгороди и крикнула, обращаясь к маэстро Марианетти, который рисковал свалиться вниз:
– И меня поставьте, сэр!
Итальянец прищурился, глядя вниз со своего помоста и пытаясь сфокусировать взгляд: что это еще за дитя? Возможно, он не обратил бы на нее внимания, но Генри Уиттакер вдруг проревел из центра Солнечной системы:
– Найдите девочке место!
Марианетти пожал плечами.
– Будешь кометой! – крикнул он Альме, продолжая притворяться, будто дирижирует Вселенной одной рукой.
– А что делают кометы, сэр?
– Летают в самых разных направлениях! – ответил итальянец.
И Альма полетела. Разогналась и ринулась в самое скопление планет, пригибаясь и уворачиваясь от них на их орбитах, вертясь и кружась так, что бант в волосах развязался. Стоило ей очутиться рядом с отцом, как он кричал:
– Не так близко, Сливка, а не сгоришь, и от тебя только угли останутся!
И толкал ее прочь от себя, яростного и пылающего, заставляя бежать в другую сторону.
А потом случилось нечто потрясающее – в какой-то момент у девочки в руках оказался горящий факел. Альма не видела, кто ей его дал. Раньше ей никогда не доверяли иметь дело с огнем. Факел плевался искрами и оставлял за собой пылающий смолистый след, а она неслась сквозь космос, который был безбрежен и не двигался по строгой эллиптической орбите.
Ее никто не остановил.
Она была кометой.
И всерьез думала, что летит.
Глава шестая
Детство Альмы – точнее, самый невинный и безоблачный его период – неожиданно закончилось в середине ноября 1809 года, посреди ночи, в самый обычный вторник, который, однако, оказался совсем необычным.
Альма очнулась от крепкого сна, услышав напряженные голоса и звук колес, проехавших по гравию. Там, где в этот час в доме обычно стояла тишина (в коридоре за дверью ее спальни, к примеру, и в покоях слуг наверху), слышались шаги, разбегающиеся во все стороны. Она встала в холодной спальне, зажгла свечу, надела кожаные сапоги и нашла шаль. Инстинкт подсказывал, что в «Белые акры», должно быть, нагрянула какая-то беда и, возможно, требуется ее помощь. Потом, став взрослой, она поняла, как абсурдно было думать так (неужели ей всерьез казалось, что она в силах чем-то помочь?), но тогда она воспринимала себя юной леди десяти лет от роду и питала определенную уверенность по поводу собственной значимости.
Выйдя на верхнюю площадку широкой лестницы, Альма увидела внизу, у парадного входа в их дом, сборище людей с фонарями в руках. В центре стоял отец в пальто поверх ночного платья; лицо его было раздраженным. Мать тоже была там, с волосами, убранными под чепец, и Ханнеке де Гроот… Значит, дело серьезное: домоправительница не любила, когда ее тревожат по ночам без дела, и мать свою Альма в такой час неспящей никогда не видела.
Но было там что-то еще, что сразу привлекло внимание Альмы. Между Беатрикс и Ханнеке стояла маленькая девочка, чуть меньше Альмы, с длинной белокурой косой. Руки обеих женщин лежали на ее худых плечах. Альме показалось, что девочку эту она где-то уже видела. Может, она дочь кого-то из слуг? Точно Альма не знала. Но девочка, кем бы она ни была на самом деле, была очень красива, хоть в свете фонарей ее лицо казалось потрясенным и напуганным.
Однако Альму встревожил не страх на ее лице, а та решимость, с которой Беатрикс и Ханнеке вцепились в ее плечи, как будто оберегая свою собственность. Какой-то мужчина шагнул вперед, словно желая протянуть к ней руку, и Беатрикс с Ханнеке сомкнули ряды, сжав плечи девочки еще крепче. Мужчина отступил. И правильно сделал, подумала Альма, увидев выражение на лице матери: непреклонную свирепость. То же выражение было на лице Ханнеке. Именно при виде этой свирепости на лицах двух самых важных женщин в жизни Альмы ее пронзил необъяснимый ледяной страх: там, внизу, происходило что-то плохое.
В этот момент Беатрикс и Ханнеке одновременно повернули головы и взглянули на лестничную площадку, где молча, уставившись вниз, стояла Альма со свечой в руке и в сапогах. Они повернулись так резко, будто их позвали по имени, и с таким видом, будто их отвлекли от важного дела и им это не понравилось.
– Иди спать, – рявкнули они хором: Беатрикс – по-английски, Ханнеке – по-голландски.
Альма могла бы возразить, но почувствовала себя бессильной перед ними обеими. Ее пугали их суровые, напряженные лица. Она никогда не видела ничего подобного. Было ясно, что она им не нужна. Что бы там ни происходило, какие бы дела ни решались, с ней никто советоваться не собирался.
Альма в последний раз встревоженно взглянула на красивую девочку в центре комнаты, где скопились незнакомые ей люди, и побежала в свою комнату. Целый час она сидела на краю постели, прислушиваясь к звукам, пока у нее не заболели уши, и надеясь, что кто-нибудь придет, объяснит ей все и успокоит. Но голоса стихли, послышался топот удаляющихся копыт, а к ней никто так и не пришел. Наконец Альма упала на подушку и забылась крепким сном, не накрываясь одеялом и так и не сняв свою шаль и тяжелые сапоги. А когда проснулась с утра, ночной толпы незнакомцев в «Белых акрах» как не бывало.
Но девочка осталась.
* * *Ее звали Пруденс.
Точнее, Полли.
А еще точнее, Полли-Которая-Стала-Пруденс.
История Полли была нелицеприятной. В «Белых акрах» старались сделать так, чтобы она не стала достоянием всех, но подобные истории всегда всплывают, и уже через несколько дней Альма обо всем узнала. Девочка была дочкой управляющего огородом в «Белых Аакрах», молчаливого немца, того самого, кто придумал новую конструкцию теплиц для дынь и принес Генри немалую прибыль. Жена управляющего была родом из Филадельфии, низкого происхождения, но необыкновенной красоты, притом известная блудница. Муж ее, садовник, души в ней не чаял, но приструнить не мог. Это тоже ни для кого не было тайной. Дамочка много лет беспощадно наставляла ему рога, даже не пытаясь скрыть свои похождения. Он же молча терпел – или просто не замечал, или делал вид, что не замечает. А потом вдруг ни с того ни с сего терпение его лопнуло.
В тот самый вторник в ноябре 1809 года посреди ночи садовник разбудил жену, что мирно спала рядом, вытащил на улицу за волосы и вскрыл ей глотку от уха до уха. После чего немедля повесился на ближайшем вязе. Шум привлек других работников поместья, которые выбежали на улицу посмотреть, в чем дело. И оправившись от вида двух внезапных смертей, нашли маленькую девочку по имени Полли.
Полли была одного возраста с Альмой, но меньше ростом и изящнее; а главное, она была так красива, что захватывало дух. Она была похожа на совершенную маленькую статуэтку, вырезанную из кусочка дорогого французского мыла, которую кто-то украсил глазами из драгоценных камней цвета павлиньего пера. Но ее крошечный алый рот, пухлый, как подушечка, делал ее не просто красивой; он превращал ее в нарушающую покой маленькую соблазнительницу, миниатюрную Вирсавию.
Когда в ночь трагедии Полли привели в «Белые акры» и она предстала перед Беатрикс и Ханнеке в окружении констеблей и здоровенных работников поместья, которые хватали ее своими ручищами, женщины тут же почуяли, что девочке грозит опасность. Некоторые из этих мужчин предлагали отвести дитя в богадельню, но другие уже заявляли о своей готовности лично позаботиться о сиротке. Половина из них сожительствовали с ее матерью, о чем было доподлинно известно Беатрикс и Ханнеке, и им не хотелось думать о том, что ждет эту красивую малышку, это порождение греха.
Не сговариваясь, две женщины вцепились в Полли, вырвали ее из рук толпы и отказались кого-либо к ней подпускать. Это решение не было взвешенным. Оно также не было продиктовано милосердием, замаскированным под теплые покровы материнской доброты. Нет, этот поступок был интуитивным, подсказанным глубоким и необъяснимым женским знанием того, как устроен мир. Нельзя оставлять столь прекрасное существо, маленькую девочку, без защиты наедине с десятью разгоряченными мужчинами глубокой ночью.
Но как только безопасность Полли была обеспечена и мужчины ушли, перед Беатрикс и Ханнеке встал вопрос: а что с ней делать дальше? И тут они приняли взвешенное решение. Точнее, его приняла Беатрикс, будучи единственной в доме, кто имел право решать. И выбор ее, надо сказать, поверг в смятение всех. Беатрикс решила оставить Полли навсегда и немедленно удочерить ее, дав девочке фамилию Уиттакер.
Потом Альма узнала, что Генри Уиттакер пытался возражать (он был не рад уже тому, что его разбудили среди ночи, и куда меньше тому, что у него вдруг появилась дочь), но Беатрикс оборвала его жалобы одним свирепым взглядом, и Генри хватило благоразумия не возражать дважды. Что ж, как угодно. Будь как будет. Ведь их семья действительно была слишком уж немногочисленна, а Беатрикс так и не удалось ее пополнить. Неужто он забыл, что после Альмы было еще двое детей? И что эти двое так и не задышали? И что сейчас эти мертвые дети лежат на кладбище при лютеранской церкви и проку от них никакого? Не кажется ли ему, что больше детей у них уже не будет? А с приходом Полли потомство Уиттакеров удвоится в одночасье, что весьма практично. Кроме того, девочка прелестна и, кажется, отнюдь не глупа. Напротив, как только шумиха улеглась, Полли продемонстрировала учтивость – пожалуй, даже аристократическую собранность, – тем более удивительную для ребенка, только что ставшего свидетелем смерти обоих родителей. Поэтому Генри согласился. К тому же у него не было выбора.