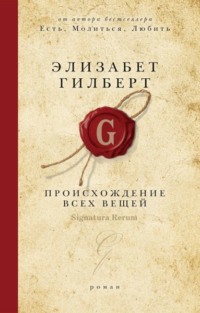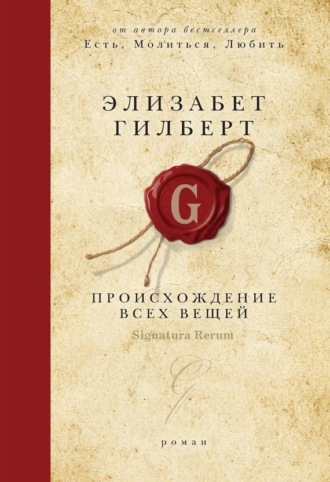
Полная версия
Происхождение всех вещей
Глава пятая
Она была дочерью своего отца. О ней говорили так с самого рождения. Во-первых, Альма Уиттакер была вылитый Генри: рыжие волосы, румяное лицо, маленький рот, широкий лоб и крупный нос. Это обстоятельство было для Альмы скорее неудачным, хотя она поняла это лишь много лет спустя. Ведь лицо, как у Генри, куда больше подходило взрослому мужчине, чем маленькой девочке. Впрочем, Генри не возражал против такого положения дел; Генри Уиттакеру нравилось видеть свое изображение, где бы он его ни встретил (в зеркале, на портрете или в лице ребенка), поэтому при виде Альмы он всегда был доволен.
«Никто не усомнится, чья это дочь!» – хвастал он.
Кроме того, Альма была умна, как он сам. И здорова. Как крепкая маленькая лошадка, она не знала устали и не жаловалась. Никогда не болела. И была упряма. С той самой минуты, как девочка научилась говорить, она никогда не уступала в спорах. Если бы мать – тот еще кремень – не проявила непреклонность и не выбила бы из нее всю дерзость, Альма вполне могла бы вырасти откровенной грубиянкой. Но благодаря матери выросла всего лишь напористой. Ей хотелось понять мир, и она выработала привычку исследовать все факты досконально, будто от этого зависела судьба всех людей. Ей необходимо было знать, почему пони – не маленькая лошадь. Она должна была знать, почему, когда проводишь рукой по простыне теплым летним вечером, рождаются искры. Ей нужно было знать, принадлежат ли грибы к растительному или животному миру, – и, даже получив ответ, она допытывалась, почему так, а не иначе.
Родители Альмы как нельзя лучше подходили для удовлетворения ее любопытства: при условии, что ее вопросы были сформулированы уважительно, на них всегда отвечали. Генри Уиттакер и его жена Беатрикс оба не терпели тупоумия и поощряли в дочери исследовательский дух. Даже вопрос о грибах удостоился серьезного ответа (от Беатрикс, которая процитировала слова великого шведского ботаника-систематика Карла Линнея о том, как отличить минералы от растений, а растения от животных: «Камни растут. Растения растут и живут. Животные растут, живут и чувствуют»). Беатрикс не показалось, что четырехлетняя девочка слишком мала, чтобы дискутировать о Линнее. Напротив, Беатрикс взялась за образование Альмы, как только та научилась сидеть. Она считала, что, раз другие дети учатся шепелявить молитвы и катехизис, как только начинают говорить, ребенок из семьи Уиттакеров уж верно научится чему угодно.
В результате Альма умела считать, не достигнув и четырех лет, и знала счет на английском, голландском, французском и латыни. Важность обучения латыни подчеркивалась особо, ведь Беатрикс Уиттакер считала, что человек, не знающий латыни, в жизни не освоит английского правописания. С малых лет Альма баловалась и древнегреческим, хоть этот предмет и не считался архиважным. (Даже Беатрикс соглашалась, что раньше пяти лет за древнегреческий браться не стоит.) Беатрикс сама учила свою способную дочь, и делала это с удовольствием. Нет оправдания тому родителю, который самолично не научил своего ребенка думать, считала она. Беатрикс также придерживалась мнения, что со второго века нашей эры интеллектуальные способности человечества неуклонно деградировали, поэтому ей было приятно учредить прямо тут, в Филадельфии, небольшой афинский лицей, единственной воспитанницей которого стала ее дочь.
Домоправительнице Ханнеке де Гроот казалось, что юный мозг Альмы, возможно, чрезмерно перегружен столь насыщенной учебной программой, однако Беатрикс ничего не желала слышать. «Не глупи, Ханнеке, – отругала ее она. – Еще ни одной смышленой девочке, которая не голодает и абсолютно здорова, не повредило слишком много знаний!»
Беатрикс предпочитала практичность бессодержательности и обучение развлечению. Она с подозрением относилась ко всему, что другой назвал бы невинной забавой, и презирала глупости и мерзости. К глупостям и мерзостям, по ее мнению, относились: пивные, нарумяненные женщины, дни выборов (когда всегда можно было ожидать, что толпа станет неуправляемой), употребление мороженого и посещение кафе-мороженого, англиканцы (которых она считала теми же католиками, а религию их – противоречащей морали и здравому смыслу), чай (добропорядочные голландки пили кофе, и только кофе), люди, разъезжающие зимой на санях, не навесив на лошадей колокольчик (так не слышно, что они едут сзади!), дешевые слуги (сэкономишь, да потом проблем не оберешься), люди, платившие слугам ромом, а не деньгами (приумножая тем самым алкоголизм в обществе), люди, приходившие пожаловаться на проблемы, но после отказывающиеся слушать здравый совет, празднование Нового года (он все равно наступит, звени в колокольчик, не звени), аристократы (благородные звания следует выдавать за соответствующее поведение, а не получать по наследству) и дети, которых слишком много хвалят (послушание должно быть нормой, и награждать тут не за что).
Она верила в девиз Labor ipse Voluptas – труд сам по себе награда. Верила, что люди с врожденным чувством собственного достоинства не вовлекаются в эмоции и равнодушны к ним, точнее, даже считала, что равнодушие к эмоциям и чувство собственного достоинства суть одно и то же. Но больше всего Беатрикс Уиттакер верила в порядочность и мораль, хотя, если ее заставили бы выбирать между ними, она бы выбрала порядочность.
И всему этому она стремилась научить свою дочь.
* * *Что до Генри Уиттакера, в обучении классическим предметам помощи от него ждать было нечего, но он одобрял попытки Беатрикс дать Альме образование. Для Генри, умного, но необразованного ботаника, древнегреческий и латынь всегда были двумя железными столпами, закрывающими вход в мир знаний, и он не хотел, чтобы его дочь столкнулась с теми же препятствиями. Он вообще не хотел, чтобы его дочь столкнулась с препятствиями – любыми.
Чему же научил Альму Генри? Собственно, ничему. Точнее, напрямую он ничему ее не научил. Ему не хватало терпения, чтобы давать уроки, и он не любил, когда дети осаждали его расспросами. Но Альма много чему научилась у отца опосредованно. Во-первых, она научилась ему не досаждать, и это был самый важный урок. Ведь стоило ей вызвать раздражение отца, как ее тут же выставляли из комнаты, и уже с появлением первых проблесков сознания она усвоила, что Генри нельзя сердить и провоцировать. Для Альмы это оказалось непросто, ведь ради этого ей пришлось затоптать все свои природные инстинкты (призывавшие ее сердить и провоцировать, сердить и провоцировать!). Впрочем, она узнала, что отец иногда не прочь услышать от дочери серьезный, интересный и внятный вопрос – при условии, что она не станет прерывать его ответ или (что было гораздо сложнее) ход его мыслей. Порой ее вопросы, кажется, даже его забавляли, хоть она и не всегда могла понять причину, – скажем, однажды она полюбопытствовала, с чего это боров так долго взбирается на спину леди хрюшки, когда у быка с коровами это выходит вмиг. Услышав этот вопрос, Генри расхохотался. Альма не любила, когда над ней смеялись. И поняла, что такие вопросы никогда не стоит задавать дважды.
Еще Альма поняла, что отец может сорваться на рабочих, гостей, жену и дочь, даже на лошадей, но в присутствии растений терпение его не покидало. С растениями он был добр и великодушен. По этой причине Альме иногда хотелось стать растением. Вслух об этом желании она никогда не говорила, ведь все бы подумали, что она дурочка, а от Генри она узнала, что нельзя выставлять себя дурочкой никогда в жизни. «Мир – сборище дураков, которые только и ждут, чтобы их облапошили», – часто говаривал он, и дочь его четко усвоила, что между идиотами и умными людьми лежит огромная пропасть и всегда стоит приземляться на стороне умных. К примеру, желать того, чего у тебя никогда не будет, не умно.
От Генри Альма узнала, что в мире есть далекие края, куда люди уезжают и никогда не возвращаются, но ее отец был в этих краях и вернулся. (Ей нравилось думать, что он вернулся ради нее, чтобы быть ее папой, хотя вслух она подобное предположение высказать так и не осмелилась.) Она узнала, что Генри смог объехать весь мир и выжить, потому что был храбрым. И что он хочет, чтобы она тоже была храброй, даже в самых тревожных ситуациях – например, когда гремит гром или за ней гонятся гуси, река Скулкилл разливается или она видит обезьяну с цепью на шее, которая ездит в тележке жестянщика. Генри не разрешал Альме бояться таких вещей. А прежде чем она толком поняла, что такое смерть, запретил ей бояться и смерти.
«Люди каждый день умирают, – сказал он ей. – Но шанс, что это окажешься ты, – восемь тысяч против одного».
Она узнала, что бывают недели – в особенности дождливые недели, когда тело ее отца причиняет ему боль, которую не должен терпеть ни один христианин. Из-за плохо зажившего перелома одна нога мучила его беспрерывно; он страдал приступами лихорадки, которой заболел в тех далеких и опасных краях на другом конце света. Порой Генри по полмесяца не поднимался с постели. Альма знала, что в это время его ни в коем случае нельзя беспокоить. Даже письма следует приносить, ступая тихо. Из-за болезни Генри не мог больше никуда ездить и потому стал приглашать весь мир к себе. Так и вышло, что в «Белых акрах» всегда было так много гостей, а в гостиной и за обеденным столом обсуждалось так много деловых вопросов. По этой же причине у Генри работал человек по имени Дик Янси, устрашающего вида йоркширец с лысым черепом и глазами-ледышками, который путешествовал по миру, представляя интересы Генри, и наводил порядок от имени компании Уиттакера. Альма усвоила, что с Диком Янси говорить нельзя.
Еще она узнала, что ее отец не посещает службу, хоть на его имя и была зарезервирована лучшая отдельная скамья в Шведской лютеранской церкви, куда ходили по воскресеньям Альма с матерью. Надо сказать, что мать Альмы не испытывала к шведам особой симпатии, но, поскольку в окрестностях не было голландской реформатской церкви, шведы были лучше, чем ничего. Они, по крайней мере, понимали основной постулат кальвинизма, гласивший, что мы сами несем ответственность за свои жизненные обстоятельства и, скорее всего, обречены, а будущее не несет ничего хорошего. Это было все, что Беатрикс знала и в чем находила утешение. Лучше, чем другие религии с их ложными и наивными обещаниями.
Альма мечтала о том, чтобы не ходить в церковь; по воскресеньям ей хотелось бы быть дома, как делал отец, и ухаживать за растениями. В церкви было скучно, неуютно и пахло табачными плевками. Летом в открытую входную дверь иногда забредали индюшки и собаки в поисках тени в невыносимый зной. Зимой в старинном каменном здании стоял лютый холод. И когда сквозь высокое окно с волнистыми стеклами проникал луч света, Альма подставляла ему лицо и мечтала, что выберется по нему наружу, как тропическая лиана в одном из отцовских парников.
Отец Альмы не любил церковь, это верно, но частенько призывал Всевышнего, чтобы Тот проклял его врагов. Что до прочих вещей, к которым Генри не питал симпатии, их было много, и Альма все их заучила. Она знала, что отец презирает взрослых мужчин, которые заводят маленьких собачек. Он также презирал людей, которые покупают быстрых лошадей, но не умеют на них ездить. Кроме того, он не терпел лодок, на которых катаются для развлечения, землемеров, тесную обувь, французский язык, кухню и самих французов, нервных клерков, крошечные фарфоровые блюдечки, которые трескались в его руке, стихи (но не песни!), сутулые спины трусов, шлюхиных сыновей-воришек, лживые языки, звуки скрипки, армию (любую), тюльпаны («зарвавшиеся луковицы!»), голубых соек, привычку пить кофе («будь проклят этот грязный голландский обычай!») и – хоть Альма пока и не понимала значения двух этих слов – рабство и аболиционистов, причем в равной степени.
Генри Уиттакер мог быть вспыльчивым. Он мог оскорбить и унизить Альму быстрее, чем иной человек застегивал жилет («Никто не любит глупых и самовлюбленных маленьких поросят!»), но были моменты, когда ей казалось, что он действительно испытывает к ней нежность, а иногда и гордится ею. Однажды в «Белые акры» явился незнакомец, желавший продать Генри пони, чтобы Альма научилась на нем кататься. Пони звали Соамс, был он цвета сахарной глазури, и Альма сразу его полюбила. Стали договариваться о цене. Двое мужчин сошлись на трех долларах. Альма, которой тогда было всего шесть лет, спросила:
– Прошу прощения, сэр, но включает ли эта цена также уздечку и седло, которые в данный момент на пони?
Незнакомец оторопел, услышав этот вопрос, а Генри громко расхохотался.
– Попался, дружище! – проревел он и весь остаток дня трепал Альму по голове, когда она оказывалась поблизости, и повторял: – Смекалистый маленький делец у меня растет!
Альма также узнала, что по вечерам ее отец пьет из бутылок и содержимое этих бутылок может быть опасным (он повышает голос и выгоняет ее из комнаты), но может таить чудеса – к примеру, он может разрешить ей сесть к себе на колени, и там ей расскажут фантастические истории, а еще может назвать ее ласковым именем, как ее называли крайне редко: Сливка. В такие вечера Генри мог сказать ей, к примеру, такое:
– Сливка, всегда носи на себе достаточно золота на случай похищения, чтобы выкупить свою жизнь. Зашей монеты в платье, если нужно, но никогда не выходи из дому без денег!
Генри рассказал, что бедуины в пустыне иногда зашивают себе под кожу драгоценные камни как раз на такой крайний случай. И у него самого в обвислых складках живота зашит изумруд из Южной Америки, а те, кто не знает, думают, что это шрам от огнестрельной раны. Ей он никогда не покажет, но изумруд там.
– У тебя всегда должен быть последний шанс откупиться, Сливка, – говорил он.
Сидя на коленях у отца, Альма узнала, что он совершил кругосветное плавание с человеком по имени капитан Кук. Эти истории были интереснее всего. Однажды на поверхность океана поднялся гигантский кит с открытой пастью, и капитан Кук направил свой корабль прямо в нутро кита, осмотрелся в его брюхе, а потом выплыл наружу – задом наперед! А в другой раз Генри услышал в море плач и увидел русалку, дрейфовавшую в океанских волнах. Ее укусила акула. Генри вытянул ее веревкой, и она умерла у него на руках. Но прежде благословила его именем Бога и поклялась, что в один прекрасный день он разбогатеет! Так у него и появился этот большой дом. Все русалка наколдовала!
– А на каком языке говорила русалка? – поинтересовалась Альма, хотя была почти уверена, что на древнегреческом.
– На английском! – ответил Генри. – Сливка, да на кой черт мне спасать какую-то чужеземную русалку?
Альма восхищалась своей матерью и иногда боялась ее, но отца обожала. Его она любила больше всего на свете. Даже больше своего пони Соамса. Ее отец был колоссом, а она смотрела на мир из-за его громадных ног и дивилась. В сравнении с Генри Бог из Библии казался скучным и равнодушным. Как Бог из Библии, Генри иногда подвергал любовь Альмы испытаниям, особенно после того, как откупоривал одну из бутылок.
– Сливка, – говорил он, – а сбегай-ка ты на пристань так быстро, как только смогут твои тонкие ножки, и погляди, не пришли ли папины корабли из Китая!
До пристани было семь миль через реку. Но даже в девять часов вечера в воскресенье в колючий ледяной мартовский дождь Альма вскакивала с отцовских колен и бежала. У двери ее ловила служанка и несла обратно в гостиную, иначе, Бог свидетель, Альма бы убежала, хоть ей было шесть лет и при ней не было ни плаща, ни шляпки, ни пенни в кармане, ни золотой монетки, зашитой в платье.
* * *Что у нее было за детство!
Мало того что ей достались столь упорные и умные родители, вся территория «Белых акров» была в ее распоряжении. И поистине это был рай на лоне природы. Какой простор для изучения! В одном лишь доме чудеса ждали за каждой дверью. В восточном павильоне стояло неуклюжее чучело жирафа с комичной настороженной мордой. На парадном крыльце лежали три гигантских ребра мастодонта, откопанные на соседнем поле, – Генри выменял их у местного фермера на новую винтовку. Еще в доме был бальный зал, пустой, с сияющим начищенным полом, где однажды холодной поздней осенью Альма нашла залетевшую с улицы колибри – та пронеслась мимо ее уха, описав совершенно удивительную траекторию (и напомнив Альме сверкающий снаряд, выпущенный из крошечной пушки). В кабинете ее отца в клетке жила майна[12], привезенная из самого Китая; она разговаривала с пылкой красноречивостью (по крайней мере, так утверждал Генри), но лишь на родном языке. Еще там были редкие змеиные кожи, для сохранности обложенные сеном и опилками. А на полках стояли кораллы из южных морей, фигурки божков с Явы, древнеегипетские украшения из лазурита и запылившиеся турецкие альманахи.
А сколько в «Белых акрах» было мест, где можно было поесть! Обеденный зал, гостиная, кухня, салон, кабинет, солярий, веранды в окружении тенистых деревьев! Там они завтракали чаем с имбирным печеньем, каштанами и персиками. (И какие это были персики! Розовые с одного бока, а с другого – золотые!) А зимой можно было пить бульон наверху, в детской, глядя на реку под окном – та сверкала под серым небом, как полированное зеркало.
На улице ждало еще больше приключений. Там располагались царственные оранжереи, где росли саговники, пальмы и папоротники, обсыпанные глубоким слоем черной вонючей мульчи, сохранявшей тепло. Еще там была шумная поливалка, поддерживающая в оранжереях влажность, которую Альма боялась. Загадочные теплицы для рассады, где всегда стояла обморочная жара и куда приносили нежные растения, приехавшие из чужих краев, чтобы те окрепли после долгого океанского путешествия; там же садовники умением и хитростью заставляли орхидеи цвести. Еще в оранжерее были лимонные деревья; летом их, как чахоточников, выкатывали на улицу, греться на естественном свету. А в конце дубовой аллеи стоял маленький греческий храм, где можно было играть в Олимп.
Еще в «Белых акрах» была сыроварня, а рядом с ней – маслодельня; Альму эти два места притягивали, так как там царили магия, суеверия и колдовство. Немки молочницы чертили на двери маслодельни шестиугольники от сглаза, а прежде чем войти, бормотали заклинания. Сыр не затвердеет, учили они Альму, если дьявол наложит на него проклятие. Когда Альма спросила Беатрикс, так ли это, та отругала ее, назвав простодушной девчонкой, и прочла долгую лекцию о процессе отвердевания сыров, в основе которого лежала химическая реакция между свежим молоком и сывороткой, в которой не было совершенно ничего сверхъестественного, а также созревание в восковых формах при устойчивой температуре. Закончив урок, Беатрикс пошла и стерла знаки с двери маслобойни и сделала выговор молочницам, обозвав их суеверными простушками. Но Альма заметила, что на следующий день знаки появились снова. И не случалось такого, чтобы сыр не застыл, что бы ни было тому причиной.
В распоряжении Альмы также были бесконечно тянущиеся дремучие акры лесных земель, которые нарочно не возделывали. Там водились кролики, лисы и ручные олени, которые ели прямо с рук. Родители разрешали Альме – да не просто разрешали, а поощряли ее – бродить по этим просторам сколько угодно с целью изучения природного мира. Она коллекционировала жуков, пауков и мотыльков. Однажды видела, как большую полосатую змею съела заживо другая змея, черная, гораздо больше первой, – это заняло несколько часов; зрелище было ужасное, но впечатляющее. Альма смотрела, как тигровые пауки роют в земле глубокие тоннели, а малиновки тащат мох и глину для гнезд с речного берега. Она решила удочерить симпатичную маленькую гусеницу (симпатичную настолько, насколько вообще гусеницы могут быть симпатичными) и завернула ее в лист, чтобы отнести домой, но случайно села на него и раздавила свою питомицу. Это стало для нее сильным ударом, но она знала: надо жить дальше. Иногда животные умирают. Некоторые из них – например, овцы и коровы – вообще рождаются лишь для того, чтобы умереть. Нельзя плакать над каждой мертвой зверушкой. К восьми годам Альма под руководством Беатрикс уже провела вскрытие поросячьей головы.
Альма всегда отправлялась на прогулки в самом удобном платье, вооружившись персональным набором коллекционера, состоявшем из стеклянных флаконов, маленьких коробочек, ваты и различных блокнотов. Она гуляла в любую погоду, так как всегда находила, чем порадовать себя. Однажды в конце апреля разразилась снежная буря, принеся с собой странный хоровод звуков: певчие птицы и колокольчики. Только ради этого стоило выйти из дома. Вскоре Альма поняла, что, если ступать по грязи осторожно, стараясь не запачкать ботинки или подол платья, ничего интересного не отыщешь. Ее никогда не ругали за то, что она возвращалась в грязной обуви, если при этом ее личный гербарий пополнялся стоящими образцами.
Пони по имени Соамс стал ее постоянным спутником в лесных вылазках; иногда она ехала на нем по лесу верхом, иногда он следовал за ней, как большая воспитанная собака. Летом Соамсу на уши надевали великолепные шелковые кисточки, чтобы ему не досаждали мухи. Зимой под седло подкладывали мех. Если не считать того, что изредка Соамс ел образцы из гербария, лучшего спутника для ботаника-коллекционера нельзя было и представить, и Альма говорила с ним весь день. Ради нее он был готов на все, только быстро бегать не соглашался.
В девятое лето, глядя, как распускаются и закрываются бутоны, Альма Уиттакер сама научилась определять время. Она заметила, что в пять утра распускается козлобородник. В шесть раскрываются бутоны маргариток и купальниц. Когда часы отбивают семь, расцветают одуванчики. В восемь наступает очередь сочного алого цвета. В девять – звездчатки. В десять – безвременника. А после одиннадцати бутоны начинают захлопываться в обратном порядке. В полдень закрывается козлобородник. В час – звездчатка. К трем часам складывают лепестки одуванчики. А если к пяти, когда закрываются купальницы и зацветает примула вечерняя, Альма не была дома с вымытыми руками, ее ждали неприятности.
Больше всего Альме хотелось знать, как устроен мир. Что за главный механизм всем управляет? Она разбирала цветы на лепестки, исследуя их мельчайшие составляющие. То же самое делала и с насекомыми, и с трупиками зверей, которые находила. Однажды утром в конце сентября она, к восторгу своему, вдруг увидела цветущий крокус – растение, которое, как она считала, цветет лишь весной. Вот это было открытие! Добиться удовлетворительного ответа на вопрос, с какой стати этим цветам вдруг вздумалось распуститься в начале осени, когда уже холодно и у них нет листьев и какой-либо защиты, а все кругом умирает, ей так ни у кого и не удалось. «Это осенние крокусы», – заявила Беатрикс. Ну да, очевидно, это так – но почему? Зачем они цветут сейчас? Они глупые цветы, что ли? Не знают, какое сейчас время? Какую такую важную миссию выполняет этот крокус, что готов страдать и раскрывать бутоны в первые ночи колючих заморозков? Никто не смог ей это объяснить. «Это не более чем проявление природного разнообразия», – сказала Беатрикс, но Альма нашла ее ответ на редкость неудовлетворительным. Когда же она стала наседать, Беатрикс проговорила: «Не на все вопросы есть ответ».
Альма нашла эту мысль столь необъятной, что несколько часов не могла прийти в себя. Она могла лишь сидеть и размышлять над этим, впав в подобие полнейшего ступора. Когда же чувства к ней вернулись, она зарисовала таинственный осенний крокус в своем блокноте, а рядом записала дату, свои вопросы и возражения. Альма вела записи крайне прилежно. Все необходимо отмечать, даже вещи, которым не находишь объяснения. Беатрикс научила ее всегда зарисовывать свои находки как можно точнее, по возможности верно указывая место данного вида в общепринятой классификации.
Альме нравилось делать наброски, но законченный рисунок иногда ее разочаровывал. Она не умела рисовать лица и животных (даже бабочки у нее выходили грубовато), хотя в конце концов пришла к выводу, что не совсем безнадежна в том, что касается зарисовок растений. В числе ее первых успехов были неплохие наброски зонтичных – представителей того же семейства, что и морковь, с полыми стеблями и плоскими соцветиями. Ее рисунки зонтичных были точными, но ей бы хотелось, чтобы они были не просто точными, – ей хотелось, чтобы они были красивыми. Она сказала об этом матери, и та заметила: «Красота здесь ни к чему. Красота – помеха точности».
Иногда в прогулках по лесу Альме встречались другие дети. Они всегда ее настораживали. Она знала, кто эти нарушители, хотя никогда с ними не разговаривала. Строго говоря, нарушителями они не были – это были дети людей, которые работали на ее родителей. Поместье «Белые акры» было огромным живым зверем, и половину его гигантского чрева занимали слуги – садовники из Германии и Шотландии, которых ее отец предпочитал местным ленивым американцам, и горничные, которые, по настоянию матери, должны были быть голландками, так как на них можно положиться. Домашние слуги жили в мансарде, а уличные рабочие – в коттеджах и пристройках, разбросанных по всей территории; они делили их между собой. Пристройки эти выглядели весьма симпатично – не потому, что Генри заботился об удобстве своих слуг, а потому, что ему был невыносим вид запустения. У некоторых из слуг были дети, и их-то Альма и встречала в лесу, к своему страху и ужасу. Но со временем у нее появился свой метод пережить эти встречи: она делала вид, что ничего не происходит. Она проезжала мимо детей на пони (который, как и всегда, шел медленным беспечным шагом, со скоростью густой холодной патоки). А поравнявшись с ними, задерживала дыхание и старалась не смотреть ни влево, ни вправо, пока нарушители не оставались позади на безопасном расстоянии. Если она их не видит, думала она, можно поверить, будто их не существует.