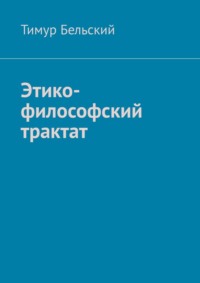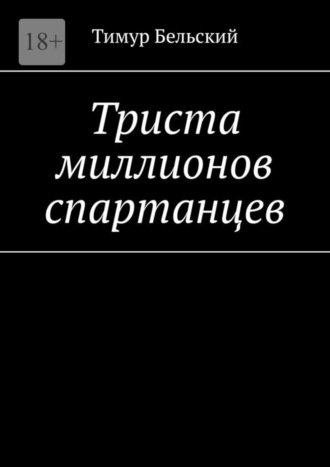
Полная версия
Триста миллионов спартанцев
Дедушка Яри задумался на секунду.
– Думаешь, он все-таки знаком с мисс Эстония? – серьезно спросил он.
Ян тоже немного подумал – и так же серьезно ответил:
– Я бы не поручился за то, что она убереглась от этого знакомства.
– Ясно. Ну, и что ты думаешь с этим делать?
– А что тут можно сделать? Если это уже произошло, спасать мисс Эстония поздно.
– Я не про мисс Эстония, балбес.
Ян только пожал плечами.
– Насильно мил не будешь, – произнес он.
После этих слов в кухне ненадолго воцарилась тишина; затем, выдержав небольшую паузу, дедушка Яри спросил, продолжая разговор:
– А как дела в университете? Уже совсем немного осталось…
– Чему я несказанно рад. Надоела мне эта учеба, и практически ни черта интересного там не было за все эти годы. Может, конечно, я ошибся с выбором профессии. Но, по правде говоря, мне и сейчас не приходит в голову ничего, что могло бы заинтересовать меня сильнее – так, чтобы как следует, понимаешь?
Дедушка кивнул головой, и Ян продолжал:
– Сейчас пишу работу по Второй мировой; история сквозь призму этической философии. Это более или менее интересно – но, сдается мне, высокой оценки я за нее не получу.
– Почему это?
– Уж слишком сильно я по всем прошелся. Не только по советской и германской оккупации, но и по нашим коллаборационистам, легионерам СС и всем прочим дерьмовым борцам за независимость. По их злодеяниям, мотивам, идеологии. И по современным деятелям, которые в поте лица трудятся над их героизацией.
Дедушка Яри, между тем, доел свой суп и отодвинул пустую тарелку в сторону; затем, внимательно посмотрев Яну в глаза, очень серьезно ответил ему:
– Дружок, тебе хорошо известно и мое отношение к вопросу, и история моих собственных злоключений. И я хочу сказать тебе всего одну вещь: ты в любом случае поступишь правильно, изложив свои взгляды на бумаге в точности так, как они представлены в твоей голове. Видишь ли, дело в том, что в подобных делах нельзя идти ни на какие уступки, сглаживать углы, соглашаться на компромиссы; нельзя вступать ни в какие сделки с совестью – даже если это всего лишь небольшая студенческая работа. Этого нельзя делать просто потому, что с юных лет лучше избегать обзаводиться подобными привычками. И с юных же лет следует приучать себя к такого рода принципиальности. Такие темы – не поле для компромиссов, просто запомни это; пиши так, как считаешь нужным, и не принимай критику, которая последует, слишком близко к сердцу.
– Да я и не думал, дедушка, – немного растерянно ответил Ян.
– Вот и не думай, – дедушка улыбнулся. – Между прочим, чего это ты не доедаешь?
– Я уже не могу, – честно признался Ян. – Спасибо.
– На здоровье. Уже поздно, тебе утром на учебу – давай ложиться спать.
– Ты иди, а я еще немного посижу здесь. Потом приму душ и тоже лягу.
– Хорошо, дружок. – Дедушка Яри поднялся из-за стола и похлопал его по плечу. – Спокойной ночи.
– Доброй ночи.
И дедушка Яри ушел спать, оставив Яна в одиночестве. Вымыв тарелки, он какое-то время просто сидел за столом, погруженный в свои мысли, снова и снова прокручивая в голове свою встречу с Анной. Затем сварил себе кофе – который он очень любил и который, как ни странно, никогда не мешал ему уснуть; выпил полчашки, и, почувствовав себя слишком уставшим, чтобы идти в душ, отправился спать.
Следующим утром Ян проснулся в самом прескверном настроении.
И, пока он умывался, завтракал и собирался в университет, он добросовестно попытался установить причину этого – и не смог. Ему никак не удавалось схватить ее, никак не удавалось понять, в чем дело; то ли ему приснилось что-то очень неприятное… то ли он забыл что-то очень важное… В любом случае, каким бы странным ему это ни казалось – пребывать в плохом настроении без всякой на то причины, – он, тем не менее, не мог избавиться от этого саднящего чувства, не мог просто прогнать его от себя.
В университете он попытался глазами отыскать Анну в аудитории – но ее нигде не было. Ян сперва было подумал, что она не явилась из-за их вчерашней ссоры – но сразу же понял, что ей слишком безразлично все это, чтобы пропускать из-за этого занятия.
Она появилась перед последней лекцией, в конце дня. Вошла в аудиторию, прошла мимо него, даже не взглянув в его сторону, и поднялась куда-то наверх, к последним рядам. Ян только хмыкнул и покачал головой.
Последнюю лекцию читал пожилой профессор Реймо, он рассказывал об участии Эстонии во Второй мировой войне. Ян слушал с интересом, поскольку тема непосредственно соприкасалась с работой, о которой он накануне рассказывал дедушке – правда, Ян писал не только об Эстонии, а обо всей Восточной Европе.
Он слушал о пакте Молотова-Риббентропа, о советских военных базах, развернутых в Эстонии под давлением советской стороны, о выборах сорокового года и о последующем присоединении к Советскому Союзу; наконец, о массовых депортациях июня сорок первого и о нападении нацистской Германии. Ян внимательно слушал все это, одновременно ощущая, как изнутри его все сильнее и сильнее раздирает то самое муторное, саднящее чувство; и да, конечно же – дело было в ней. В Анне.
Надо было давным-давно наплевать на все и прекратить всякие контакты с ней. И ни к чему было добиваться ее, и ни к чему было выяснять отношения – все одно бесполезно.
И было даже немного забавно, что это самое простое объяснение, эту самую очевидную причину своей грусти он с таким успехом вытеснил из своего сознания, что искренне недоумевал, пытаясь понять, отчего же он чувствует себя так плохо.
Он обернулся назад, и после непродолжительных поисков нашел ее на предпоследнем ряду. Она что-то записывала в блокнот, не поднимая головы.
И она была очень, очень красива, а ему было очень, очень мерзко от всего сразу – и от желания обладать ей, и от их вчерашней ссоры, и от того, что она предпочла ему другого; и, пожалуй, эти обстоятельства сыграли далеко не последнюю роль в том, что произошло дальше.
Снова повернувшись к лектору, который как раз закончил говорить об отступлении советских войск из Прибалтики и почему-то сразу перескочил к сорок четвертому году, Ян попытался отвлечься на его долгий, лишь изредка прерываемый короткими паузами монолог – и в этот самый момент Реймо заговорил о легионерах СС.
– Есть принципиальная разница, – говорил Реймо, – между германскими частями СС и Балтийскими легионами. Цели последних отличались от целей и идеологии германских эсэсовцев, поскольку они заключались в борьбе с большевизмом, в освобождении прибалтийских республик от всякой оккупации и в возвращении им независимости. По этой причине…
– Я могу задать вопрос? – неожиданно громко спросил Ян, бесцеремонно перебив его.
В аудитории повисла тишина; все теперь внимательно слушали их. Реймо, прервав свой монолог, какое-то время с удивлением смотрел на Яна. Затем, не демонстрируя совершенно никаких эмоций, ответил ему:
– Вопросы я предлагаю отложить до конца лекции. Осталось совсем немного.
– Боюсь, подходящий момент будет упущен. У меня короткий вопрос, – настойчиво повторил Ян.
– Пожалуйста, – после еще одной короткой паузы пожал плечами Реймо.
И Ян отложил в сторону ручку и бросил первый пробный камень:
– Вам известно, что Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией? – спросил он.
Реймо недобро усмехнулся. Он сразу понял, что происходит.
– Молодой человек, а вам известно об особом статусе эстонских, латвийских и литовских легионеров СС? – ответил он вопросом на вопрос, копируя интонацию Яна.
– Мне известно, что приговор Нюрнбергского трибунала никогда не менялся, – парировал Ян, – в том числе, и в этой части. А об особом статусе, к которому вы апеллируете, говорилось в каком-то там американском документе, подписанном через несколько лет после Нюрнберга госсекретарем Макклоем. И никакого отношения к приговору трибунала этот документ не имеет.
– Вы знаете, я думаю, дело ведь не в документах, – снова усмехнувшись, сказал Реймо. – Вы, очевидно, не согласны с утверждениями, которые здесь прозвучали; так что, я полагаю, нет смысла нам вести юридический спор?
– Пожалуй, – охотно согласился Ян. – Я не согласен с тем, что эстонские или латвийские легионеры хоть чем-то отличаются от прочих эсэсовцев – даже если не принимать во внимание многочисленные факты конкретных военных преступлений, совершенных ими и на территории нашей страны, и за ее пределами – например, в Белоруссии. И я бы принял ваш аргумент о том, что они воевали за свободу и независимость своей родины, если бы не одно но – нельзя воевать за Гитлера.
– Они воевали не за Гитлера, – еще более недобрым, чем усмешки Реймо, голосом возразил ему кто-то сзади. И Ян сразу узнал этот голос.
– Они присягали ему на верность, – не оборачиваясь, резко ответил он. – Если ты прочтешь текст их клятвы, то убедишься в этом. Но дело ведь даже в не клятвах – они воевали на стороне стран Оси; неужели это так трудно понять? – с этим вопросом Ян обратился уже ко всем, обернувшись к аудитории. – Моя мысль здесь крайне проста, и заключается она в том, что ни при каких обстоятельствах – и ни с какими мотивами – нельзя было присягать на верность этому чудовищу и воевать на стороне рейха, поскольку никакие цели не оправдывают такого участия в той войне.
– Да что ты говоришь? – издевательским тоном спросил его Урмас – а это был именно он; и теперь уже Ян, не отрываясь, смотрел прямо на него, сверля его взглядом. – Нельзя воевать за собственную свободу против вчерашних оккупантов? Нельзя сражаться за то, чтобы они больше никогда не вернулись обратно? Может, сразу покажешь нам свой партбилет?
– Есть общее этическое правило, – пропустив последний укол мимо ушей, заговорил Ян, – ни у кого нет морального права совершать преступления ради защиты своих интересов, пускай даже справедливых, равно как нет и права соучаствовать в чужих преступлениях. Если человек хочет бороться за свою свободу, за независимость, за справедливость – это благородное дело, но он не может добиваться всего этого несправедливостью. А иначе он абсолютно ничем не отличается от тех скотов, которые его собственную свободу попрали.
– А можно без этого псевдоинтеллектуального бреда? – поинтересовался Урмас. – Впечатления он не производит.
– Зато производит огромное впечатление твой бред о том, что ради защиты своих интересов можно воевать за тех, кто имеет целью уничтожить целые народы…
– Они воевали за свою страну! – резко оборвал его Урмас. Было заметно, что он очень зол. – Десять тысяч человек выслали отсюда перед началом войны – насиловали, расстреливали, морили голодом в лагерях. Еще в десять раз больше депортировали после – а ты называешь людей, которые пытались воспрепятствовать этому, скотами?!
– Да! – отрезал Ян. – Да, называю. Препятствуя этому, они потворствовали другому, еще большему, злу, а многие – ничуть не менее мерзкие, чем описанные тобой, – преступления совершили собственными руками!
Реймо – который, несмотря на более чем эмоциональный характер этой дискуссии, до сих пор не вмешивался в нее, молча наблюдая за происходящим – наконец, по всей видимости, решил, что уже хватит; с немалым трудом ему удалось успокоить их – после чего, взглянув на часы и высказавшись напоследок в том ключе, что политика всегда мешала и будет мешать объективному восприятию истории, он отпустил всех домой – до конца лекции все равно оставалось меньше десяти минут.
Еще более раздосадованный, Ян быстро собрал свои вещи и вышел из аудитории. У выхода он столкнулся с Анной, которая посмотрела на него так, словно он был инопланетянином – и, отвернувшись от нее, зашагал к боковой лестнице.
Он успел отойти совсем недалеко, когда его окликнули сзади – и он резко обернулся.
Быть может, если бы Урмас выкрикнул ровно то же самое, но в какой-нибудь другой день, или сделал бы это без своей фирменной, издевательской ухмылки, или хотя бы не в присутствии Анны – Ян просто ответил бы ему тем же и ушел; он вообще был довольно неконфликтным человеком – хотя стороннему наблюдателю, пожалуй, было бы непросто разглядеть это за событиями последних дней.
Но в тот момент все обстоятельства, собранные вместе и помноженные на его гнетущую, болезненную тоску, спровоцировали взрыв – и он бросился в драку.
То, что произошло дальше, запомнилось ему смутно; он помнил, как повалил явно не ожидавшего такой реакции Урмаса на пол и, придавив его весом своего тела, с яростью вколачивал в его голову тяжелые, отбойные удары. Его руки, лицо, одежда – все было в крови Урмаса.
А потом кто-то вдруг вцепился в него сзади мертвой хваткой и резко дернул на себя, рывком подняв на ноги. Ян было попытался освободиться – но не смог; оглянувшись, он с изумлением обнаружил, что это был никто иной, как Реймо – в котором он едва ли мог бы заподозрить подобную физическую силу.
Примерно через полминуты, встряхнув как следует Яна и убедившись в том, что он более или менее пришел в себя, профессор отпустил его, молча указав ему на выход.
И, словно пребывая в густом, влажном тумане, шатаясь на своих ватных, негнущихся ногах и боясь даже просто обернуться или посмотреть по сторонам, Ян медленно побрел домой, по дороге все больше приходя в себя и все отчетливее осознавая масштабы возможных последствий того, что он натворил – начиная с отчисления из университета и заканчивая уголовной ответственностью за избиение.
Домой Ян вернулся совершенно разбитым. Едва он переступил порог, как, к его немалому удивлению, позвонила Анна.
Они немного поговорили. От нее Ян узнал о том, что о драке сообщили декану, и у него, похоже, будут большие неприятности. Вполне возможно, что дело действительно закончится отчислением.
После он постарался успокоиться и взять себя в руки, попытался выбросить произошедшее из головы; ведь что сделано – то сделано, и ничего уже не изменишь. Если его все-таки решат отчислить – то едва ли он может как-то повлиять на это.
Но мысли в голове путались, и тяжелое, скверное предчувствие не отпускало его. Он принял душ, переоделся и какое-то время пытался читать, чтобы отвлечься, но в итоге отбросил книгу в сторону и спустился вниз, на кухню, где дедушка Яри жарил картофель и эскалопы.
– Что случилось? – с тревогой спросил он, едва взглянув на лицо Яна.
Ян рассказал ему. К тому моменту, как он закончил говорить, дедушка выключил плиту и поставил сковороду на кухонный стол.
– Спасибо, я не голоден, – Ян покачал головой.
Дедушка немного помолчал, обдумывая что-то. Ян сосредоточенно глядел куда-то в окно, тоже размышляя о своем. Наконец, откашлявшись, дедушка заговорил:
– Видишь ли, в чем дело, дружок, – он говорил медленно, тихим, ровным голосом, – споры о той войне не утихнут уже никогда. Этого действительно не произойдет – потому, что никто на самом деле ничего не понял, и никаких уроков из той трагедии люди не извлекли. Пожалуй, единственное, в чем все сходятся почти единогласно – это в осуждении германского нацизма и лично Гитлера; и, по моему глубокому убеждению, это так лишь по одной-единственной причине: Гитлер проиграл ту войну.
– Только поэтому? – Ян невольно усмехнулся.
– Да, только поэтому, – серьезно ответил ему дедушка. – Только поэтому его фигура оценивается так однозначно, в то время, как споры вокруг личности Сталина, например, не прекратятся никогда – такова уж природа людей.
– Мне кажется, в наши дни осуждающих его все-таки большинство, – заметил Ян. – Ты же знаешь, как часто повторяют в последнее время, что он вел войну против своего народа?
– Вел войну против своего народа? – переспросил дедушка Яри. – Как по мне, он в ней победил.
Ян снова усмехнулся.
– Съешь все-таки эскалоп, – все в той же серьезной интонации посоветовал ему дедушка. – Сходи на прогулку, почитай, займись чем-нибудь – а потом ложись спать пораньше. Утро вечера мудренее, – с этими словами, поднявшись из-за стола, дедушка Яри похлопал его по плечу, ненадолго задержав свою руку; затем, улыбнувшись Яну напоследок, тяжелой, старческой походкой вышел из кухни.
Оставшись один, Ян подумал о том, что сегодня пятница, и впереди у него два выходных дня, которые ему предстоит провести в полном неведении относительно своего ближайшего будущего. Пожалуй, в данный момент наилучшим решением действительно было просто выбросить все это из головы – хотя бы на сегодняшний вечер.
И, посидев еще немного в тишине, прерываемой лишь тиканьем старых настенных часов, он достал из кухонного шкафа тарелку, положил себе солидную порцию, налил в чашку горячего кофе – и вместе со всем этим добром отправился к себе в комнату.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Есть два первичных вопроса, которые встают перед каждым осознающим себя индивидом: что я могу делать и что я выбираю делать?
Не задавать первый из них равносильно выбору вседозволенности, выбору отсутствия ограничений; не задавать второй – то же самое, что избрать элементарную стратегию следования своим побуждениям и желаниям.
И задаете вы себе эти вопросы или нет – они определены для вас.
Ответом на первый вопрос служит морально-этическая система ценностей. Она действует, как закон – по запрещающему принципу, очерчивая границы дозволенного, отсекая недозволенное.
Отвечая на второй вопрос, индивид выбирает для себя уже не этические, а жизненные ценности и цели – выбирает, как ему распорядиться своей жизнью и отпущенным ему временем – причем, делает этот выбор в рамках вышеуказанных границ дозволенного.
Этическая система ценностей – это нравственная конституция человека.
Система ценностей порождает кодекс.
Человек, обладающий честью, соблюдает свой кодекс. Честь – не что иное, как склонность соблюдать кодекс.
Из этого элементарно следует, что понятие чести не является самоценным. Честь – это добродетель лишь тогда, когда она мотивирует вас соблюдать этически верный кодекс, основанный на достойной системе ценностей.
Существуют две этические системы, естественные, логичные и внутренне непротиворечивые за счет того, что они наделяют всех индивидов естественными и равными правами.
Это система ценностей, основанная на справедливости, и система ценностей, основанная на животном праве силы. Вторую из них, к примеру, исповедовал морской волк Ларсен, персонаж известного романа Джека Лондона.
Эта система ценностей – «я имею право на все, что я могу» – фактически, являет собой лишь отсутствие таковой, низводя человека до уровня животного. Индивид, следующий лишь принципам, действующим в дикой природе – то есть, не имеющий таковых, по праву сильного поступающий так, как ему заблагорассудится везде, где он обладает им, и признающий за другими аналогичное право там, где он слабее – такой индивид не считает необходимым определить для себя принципиальное отличие между собой и животными, ибо одно только превосходство в интеллекте не может рассматриваться в качестве такового.
Встречаются также системы этических ценностей, устанавливающие для индивидов равные, но неестественные и необоснованные ограничения – к примеру, порожденные той или иной религиозной мифологией. Такие системы всегда уязвимы и ущербны, и зачастую открыто требуют от своих адептов безусловной слепой веры – преследуя незамысловатую цель сокрыть эту самую ущербность.
И, наконец, существуют этические системы, наделяющие индивидов разными правами по некоторому признаку или некой их совокупности. Уровень интеллекта, уровень благосостояния, половая принадлежность, возраст, происхождение, личные достижения и заслуги – одни из нередких вариантов выбора такого признака.
Истина в том, что невозможно обосновать причинно-следственную связь, согласно которой, к примеру, более развитый в интеллектуальном плане индивид имеет больше прав и свобод – потому, что ее просто нет. Интеллектуалы двигают прогресс, они выполняют высококвалифицированный труд – и имеют право на более высокое материальное вознаграждение за него, но ни в коей мере не на более обширные права в сфере морали и этики, в сфере взаимоотношений с другими людьми. Также не следует забывать о том, что без рожденных ползать летать не могут.
И ни принадлежность к определенному полу, ни прожитые годы, ни былые заслуги, мнимые или действительные – ничто из этого не обеспечивает индивиду особые права, и, в особенности, на совершение проступков по отношению к другим людям; ничто из этого не обязывает других людей оставлять эти проступки безнаказанными; ничто из этого не прибавляет достоинства индивиду и не дает ему права требовать особого отношения к себе.
И какой бы признак мы в итоге ни выбрали здесь – мы никогда не сможем обосновать указанную причинно-следственную связь.
Итак, в сухом остатке, наш выбор сводится к трем вариантам:
– Система ценностей, основанная на праве сильного; выбрать этот вариант – то же самое, что не выбирать систему ценностей вообще.
– Система ценностей, основанная на принципах справедливости.
– Одна из бессчетного множества других, логически не обоснованных, неестественных, ущербных этических систем.
И каждый из нас делает этот выбор, осознанно или неосознанно: жить как животное, как человек или как глупец.
Но в чем фактическая ценность следования принципам справедливости? Для начала, в том, что даже попытки следовать им – пусть и безуспешные по большому счету – привели нас из каменного века в век сегодняшний.
Отчасти это произошло благодаря тому, что справедливость обладает свойством оберегать нас от излишней боли. И нет, конечно же, я ни в коем случае не стал бы пропагандировать фантастическую модель общества, в котором никто не испытывает абсолютно никакой боли. Но то может быть боль утраты, боль разлуки, боль неразделенной любви, это может быть боль неудачи или поражения, боль преодоления или поиска, или же просто боль страдания, причиненного болезнью или увечьями – как и многое, многое другое. И я убежден в том, что люди могли бы обойтись без причинения дополнительной боли друг другу – и это не привело бы никакое общество к деградации и вырождению; напротив, это был бы путь к большему благоденствию и процветанию.
И если теперь мы рассмотрим другую, не менее абстрактную и фантастическую модель – модель общества идеальной справедливости – то у него есть одно интересное свойство: в таком обществе минимизировано совокупное количество боли индивидов, которые его составляют, поскольку оно либо вовсе не допускает совершения актов несправедливости, либо, как минимум, гарантирует справедливое возмездие каждому, кто осмелится причинить другому незаслуженную боль. В последнем случае, на каждый акт несправедливости общество отвечает актом восстановления справедливости – и, что не менее важно, адекватным актом – не допуская, таким образом, ни безнаказанности, ни эскалации зла.
Справедливость минимизирует боль.
И справедливость ценна сама по себе, она может и должна служить моральным ориентиром – даже в тех ситуациях, в которых следование ее принципам не приводит к минимизации совокупной боли всех вовлеченных индивидов, – и каждый, кто действует в интересах справедливости, безусловно прав.
Развивая эту мысль и говоря далее о моральном праве, можно сказать, что у человека есть право действовать любым образом, если это не идет вразрез с принципами справедливости. Любая система ценностей, которая не декларирует в самой своей основе святость этих принципов, является ущербной. На более низком уровне у каждого есть моральное право выбирать. Мы можем оценивать деньги выше, чем время, либо оценивать время выше, чем деньги. Мы можем считать, что личные достижения важнее того, что дает человеку семья, или наоборот. Мы можем ставить личную свободу выше собственной безопасности, или добровольно жертвовать первым ради второго – пусть кто-то и считает, что в этом случае мы не заслуживаем ни того, ни другого. У человека есть выбор, мы свободны.
И лишь в самом начале, когда мы выбираем фундамент для своей будущей системы ценностей, когда мы выбираем систему этических ценностей для себя – мы можем совершить ошибку.
Любая гнусная система ценностей начинается с попрания принципов справедливости либо пренебрежения ими.
Итак, система этических ценностей, о которой идет речь, основана на таких категориях, как справедливость, свобода и гуманизм.
Справедливость – это абсолют; она превыше всего и может ограничивать свободу.
В то же самое время, как это ни парадоксально, гуманизм может ограничивать справедливость. Гуманизм – это то, что мы добровольно делаем сверх справедливости, хотя и не обязаны к этому. Это жест доброй и свободной воли, который мы совершаем не из необходимости следовать принципам справедливости, избранной нами для самих себя в качестве категорического императива, а без каких-либо вынуждающих причин ради самого акта добродетели.