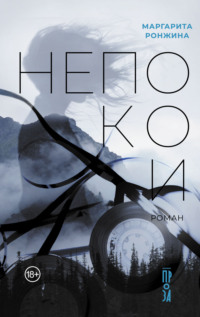Полная версия
Одиночка
Часы шли, шли, но лучше не становилось. Как была, босиком, прошла до пустынной ванной комнаты. Подумала, что вырвет, и наклонилась к раковине. Плеснула несколько раз на лицо, на руки, на грудь – ледяным.
ничего
Посмотрела в свое лицо, не глаза – лицо. И все вокруг снова завертелось, закрутилось, лицо куда-то понесло.
Саша отодвинулась к ванне, нагнулась, оперлась, куда-то поползла. Влезла в зеркало с одной стороны, вылезла с другой. Пыталась оторваться, выбраться на свободу, силилась, силилась и наконец сделала спасительный рывок.
Получилось. Донесла лицо до пола, уцепилась за что-то телом, закружилась туда-сюда, затанцевала в форме плиточных паттернов, в форме прочных роршаховских ассоциаций, меандровых узоров. И там, в этом пестром, мозаичном, так и осталась вальсировать.
нет, как ни крути, не выкрутишь из головы
Вальсировала и вальсировала, пока не упала. Куда-то упала.
И мир спешно покинул ее.
* * *(настоящее время, три месяца после рождения ребенка)
Люлька отбивала ноги.
Тяжелая, наполненная мальчиком люлька была явно создана не для Сашиных ослабевших рук. Пока она поднималась домой, наверх на четвертый этаж, плечи дрожали, нетренированная спина глухо ныла. Подъездные, слишком яркие лампы раздражали. Пакет, со злополучными продуктами пакет каждый раз стукался о ногу, так, что порвал колготки и уже царапал ногу.
Четвертый этаж без лифта.
Добралась.
Саша зашла в квартиру, поставила люльку на пол, к ногам – дальше не позволяла площадь. Кинула ключи на столик у заляпанного зеркала. Села на тумбу, как была в плаще, обуви, перчатках, и закрыла руками лицо. Пахнуло улицей, железными поручнями автобуса, наступающей осенью.
Как же устала. Морально и физически. Разжать, разжать этот голый нерв в сердце. Но это было не по силам. Не сейчас. Раздеться бы. Умыться. Выпить чая.
очень сложно
Она скинула обувь, одну об другую ногу, и верхнюю одежду. Сразу протянула руку, чтобы выключить за собой свет – привычка от бабушки, – хотя еще не унесла ребенка в другую комнату. Включила, опять. Низкий, какой-то давящий потолок на несколько секунд сбил ее с толку. Оглушил.
Душно, тесно, безобразно, хотя раньше, подбадривая себя, она говорила «компактно». Ведь вполне же обычная, даже уютная квартира, не лучше и не хуже, чем у многих: на пятачке в прихожей вздулся линолеум; бежевые, в мелкий цветочек обои хоть и не висели клочками, как в детстве, но уже устарели и требовали замены; черная тумба и столик с зеркалом – комплект – были из тех вещей, которые не нравятся, но не выбросишь, ведь почти новые.
Ребенок заплакал, напомнил о себе. Саша раздраженно натянула футболку с шортами, а потом раздела стонущее тельце до тонкого слитного комбинезона.
– Ну, пойдем.
Люльку с ребенком расположила на кухне, на полу. Раньше ставила на стул, но теперь боялась неловких движений. Пространство вокруг было заставлено: светло-голубым гарнитуром, электрической плитой, угловым диваном, столом, двумя стульями. Широкий подоконник пустовал, но это было святое место – там она сидела, когда пила кофе.
Нет, на полу надежнее.
Вода нагревалась. Груди наполнились неравномерно: одна чуть больше, чем вторая. Ребенок скоро захочет есть, и надо бы выпить побольше горячей жидкости. Хочет она – не хочет, все для него.
теперь нет, нет своих желаний
Чайник наконец вскипел, Саша плеснула воду в кружку и отдернула руку. Черт! Ошпарилась. Оглянулась на ребенка – он вроде лежал, как раньше, не двигался, но уголки рта, да, уголки рта насмешливо поднялись: «Так тебе и надо, получай, нерадивая, плохо дающая молоко грудь, вокруг которой образовались другие части тела».
– Доволен, значит.
Она смахнула слезы, зло пнула стул, и тот отлетел, громко ударившись о ножку стола. Как-то выходило одновременно и ненавидеть свою слабость, и злиться, да, злиться на ребенка. Маленького, беззащитного. Но требующего, требующего, сосущего!
Он хозяин, господин и повелитель. Она рабыня, которая исполняет приказания: часами укачивать на руках; обнажать коричневые, с отпечатками десен соски; менять памперсы; поддерживать комфортную температуру тела и, конечно, своевременно обеспечивать лекарствами. Иначе посинения, приступы, да мало ли что еще.
Ему требовалась вся Сашина жизнь. И это невыносимо. А что, если так подумать, ей оставалось делать? Не ухаживать? И пусть кричит, пока добрые соседи не позвонят куда надо?
невозможные мысли
Всхлипнула. Подставила руки под ледяную воду, и сердце – вместе с обжигающей болью – потихоньку успокаивалось. К черту! Пора кормить. Чай можно пить параллельно. Расписание, установленное в больнице, нарушать не хотелось.
Саша поставила кружку на стол, достала мягкое, будто лишенное всех косточек, тело ребенка, залезла в угол на диван. Приладила его на коленях, поддерживая слабую шейку, направила сосок в ищущий рот. Боже, только не это. Вдруг опять регресс, и он забыл, как сосать? В больнице, когда ей только разрешили кормить грудью, откат был уже два раза, и врач, который «ничего гарантировать, конечно, не мог», уверял, что на этих лекарствах состояние должно улучшиться.
– Ну давай, давай… – пихала она сосок в ребенка ребенка в сосок
Еще раз. И еще. Есть! Пружина раздражения немного поддалась, и Саша чуть выдохнула от облегчения. Большими глотками заливала в себя чай, руки уже почти не держали, дрожали. Дрожали. Она опустила голову. Вот и вся ее неприпудренная реальность, за этим клеенчатым столом, в скрюченном положении, с ребенком на руках…
– А-а-а!
Он зажал сосок, деснами зажал ее сосок. Саша так быстро вскочила, что ударилась коленками о стол. Резко оторвала малыша от себя и понесла в спальню. Хватит. Пусть это мелкое чудовище полежит в кроватке.
Он заплакал, закричал, и вроде как надо было покачать, успокоить, но внутри лопнуло что-то сдерживающее, понимающее. Человеческое. Вышло то черное, тугое.
Вдавила ногти в кожу головы. Больно? Больно. Вот и хорошо. Вот и пусть больно. А вот еще, а вот еще, а вот. Саша дернула, со всей силы дернула на себе футболку, закрутила в кулак, пыталась ее разорвать, пыталась сделать себе еще больнее, вдавить живот, вдавить грудь, пережать кровотоки, артерии, перекрыть доступ к кислороду.
Почувствовала – что-то упало. Сама тоже упала – на полу блестящей порванной змейкой лежала мамина цепочка. Накрыла ее ладонью.
мама, мама, как много мне еще хотелось, как о многом мечталось – сделать ремонт, пойти на повышение, купить машину, переехать поближе к центру, научиться играть на гитаре, неделю бродить одной по Парижу
а что теперь?
что?
Стало так глупо, что почти весело. Она начала хлопать себя по щекам, чтобы не допустить, чтобы не засмеяться, боялась, что перейдет эту грань и уже не вернется, уже себя не остановит. Она била себя по щекам, по бокам, по животу. Но унять не получилось.
И встал перед ней сам черный смех.
два
(больница, третья неделя после родов)
Старушка любила яблочную пастилу. И свою четырехлетнюю внучку. Никто не говорил, что нужно выбирать.
Она, сухопарая, собранная, аккуратно зачесывала назад негустые, красиво поседевшие волосы. Держала тумбочку, свои не– и внучкины многочисленные вещи в идеальном порядке. Тщательно убирала остатки еды, так, что лишние запахи не наполняли палату. Точно придерживалась собственного расписания: подъем в шесть утра, гигиена, завтрак, занятия, обед, прогулка, ужин, свободное время, сон. Она почти никогда не ходила в туалет ночью и не скрипела протяжно дверьми.
Она стала Саше идеальной соседкой.
Время для отдыха у нее оставалось лишь вечером, когда внучке – худенькой девочке, миловидно щурившей один глаз и слегка похрамывающей, – разрешалось смотреть мультфильмы на планшете. Тогда Кира Степановна выкладывала на тумбочку сласти: пастилу, зефир, грецкие орехи; заваривала травяной чай и раскрывала книгу на нужном месте. И медленно, с кротким наслаждением, брала в руки яблочное лакомство, скручивала его в пальцах, чуть сдавливала и аккуратно откусывала.
В первый же день пребывания пожилая женщина предложила Саше сходить до магазина, пока она посмотрит за детьми.
– Проветришься, купишь еды, да и мне кое-что захватишь, – соблазняла она.
Конечно, удобнее было бы заказать доставку. Но возможность выйти на свежий июньский воздух сначала смутила, а потом раззадорила Сашу. Полчаса в одиночестве. Тридцать долгих минут в привычном мире. Одна тысяча восемьсот секунд на воле – выбирая, покупая, оплачивая. То, что нужно!
Она принесла немного еды себе: земляничный чай в пирамидках, злаковые батончики, творожки, лапшу быстрого приготовления, бриоши с шоколадом – и сладости по заказу Киры Степановны. Поблагодарила, что старушка присмотрела за ребенком, отказалась от чая и легла к зеленой стене, сославшись на «дикую затылочно-височную головную боль».
Саша пыталась совладать с запоздало затрясшимися руками. Со скрученным в очередной раз сердцем. Поймала себя на мысли.
Там…
Как там, на улице, хотелось бросить все и бежать по тротуару, а лучше по дороге наперегонки с машинами ну и пусть сигналят, пусть попробуют догнать, пусть И потеряться в лесу, долго плутать, искать ягоды и коренья и чистую питьевую воду, и, может, неожиданно найти ручей, душевный источник и наконец утонуть в нем Или сесть в самолет и улететь на другой конец света, на райский остров, на котором, впрочем, не будет для нее никакого рая.
Начать жизнь с начала или с конца, как пойдет, но ни в коем случае не продолжать с того, на чем остановилась, не с пугающего «сейчас».
Так хотела, но знала – не бросит, не убежит, не улетит.
Не сможет. Не простит.
Усмирила что-то беснующееся внутри. Вернулась. Назад, к ребенку, к своему будущему.
А что поделать?
Дни в больнице, то однообразие дней, которые начали наполняться если не событиями, то новыми, проникающими сквозь оставленную в броне щель людьми, немного примиряли ее с обстоятельствами, отвлекали от крутившегося и вертевшегося рядом отчаяния, позволяли поддерживать бытовые разговоры с Инной, Катей, Кирой Степановной.
Она по-прежнему не стремилась к общению, но и не противилась попыткам себя «растормошить». Не все ли равно, раз приходится оставаться и ждать операцию. Здесь ее окружали люди, мамы маленьких пациентов, которые могли найти ответ на любой вопрос. Чем чаще до отстраненной Саши доносилась жизнь отделения, тем больше она удивлялась той обыденности, с которой говорят на многие темы.
Ну как, как можно говорить – даже подумать о том, чтобы говорить! – о том, какой купить крем для ног, о том, как раздражают вросшие волоски в паху, или о том, какой симпатичный персонал на третьем этаже, – когда рядом так много детей на колясках, детей без волос, детей с перемотанными головами.
невыносимо
Это шокировало и отталкивало. Отдавало суровой реальностью, которую принимать не хотелось.
Рыжая красавица не отступала, старалась мягко сблизиться с Сашей. Внимание от нее иногда казалось слишком горячим, избыточным – в чем-то оглушало, где-то смущало, но главное – смягчало. Сближало. Дарило нужное, неосознаваемое пока тепло.
И в первое время этому сильно способствовала дочь Инны. Неведомым образом Машенька притягивала Сашу. Не только красивым, изящно вылепленным, как у фарфоровой куклы, лицом. Нет, тут было что-то еще. И она пыталась разгадать что. И эта восьмилетняя девочка, в их самую первую встречу, тоже прислушивалась, прямо оценивала новую знакомую.
А потом важно, как на приеме, произнесла, подавая руку:
– Привет, я Маша!
То ли от смущения, то ли повинуясь непонятному порыву, Саша нагнулась к коляске, пожала сначала левую, протянутую, а потом легонько стиснула правую, живущую на неподвижных коленях. Эта рука то изображала клюв птицы, не специально сжимая большой и средний палец, то выгибалась в обратную сторону, образуя морскую звезду. Она явно стремилась к самостоятельной, автономной жизни.
Уже после двойного приветствия Саша внезапно испугалась: а вдруг она причинила девочке боль. Но нет, Машенька, чувствуя покорного слушателя, переключилась на рассказ о себе. Через полчаса Саша узнала все или почти все о любви к точным наукам и языкам, желании работать преподавателем математики в Германии, когда девочка вырастет, о нетерпимости к популярным ток-шоу и страсти к научным книгам и передачам.
Эта милая болтушка не унималась, и по мере общения Саша все больше восхищалась сочетанием ее детской восторженности, мечтательной легкости и прямого, где-то даже циничного взгляда на мир. Мир, в котором маленьким девочкам и всем, всем приходилось страдать.
Где Машенька черпала энергию? Как боролась с приступами меланхолии? Может, внутри этой сильной девочки, ступни которой еще ни разу не касались земли, находился тайный генератор счастья, не истертый долгой душевной болью, не истончившийся нервным ожиданием и страхом, страхом за свое будущее?
кто знает
Как все-таки здорово было иметь юное, не потерявшее веры сердце.
* * *– У Катиной дочки сегодня операция? – спросила Кира Степановна еще до завтрака, пока Саша заправляла постель и допивала обязательный утренний кофе. Старушка ждала обхода, чтобы потом немного подремать – со вчерашнего дня она несколько раз упомянула о головной боли и давлении.
– Да.
– Бог даст, все пройдет хорошо.
– Да, – повторила Саша и засобиралась в столовую. Она хотела, но почему-то постеснялась спросить соседку о самочувствии. Ей казалось, что в вопросе будет сквозить неискренность. Слова встали в горле.
Она могла думать только о Кате. О том, как та проводит дочку в операционную, будет ждать, меряя шагами коридор, а может, потом пойдет назад – отошлют – в отделение. Она будет сжимать похолодевшие, напряженные пальцы, грызть ногти но это же не она, не она дергать ногами, не в силах остановиться, замереть и пережить этот операционный невроз.
ногти
Вовсе не о Кате она думала. А о себе. Что ей придется пережить ради того, кого… Саша глянула на крошечное тело. Чертов ребенок!
– Да, – повторила она и, небрежно подняв на руки младенца, вышла.
Кати в столовой не было, но Инна с Машенькой уже сидели в углу – там удобно было задвинуть коляску и как бы уединиться своей компанией. Инна привычно протянула руки, чтобы взять у Саши нетуго запеленатый сверток. Иначе никакой совместной еды не получилось бы – ребенок бодрствовал, а оставлять его одного в палате, чтобы поболтать о мелочах за завтраком, казалось совсем плохой идеей. Не хотелось получать косые взгляды медсестер, соседки или Инны.
– Вкусная каша сегодня, – сообщила Машенька, которая больше всего на свете ценила вкусную, вредную и калорийную еду, но из-за сидячего образа жизни не часто ей лакомилась. – А еще бутерброд с сыром и маслом. Я съела два!
– Хорошо, – улыбнулась Саша. – Я тоже попробую.
– Тебе нужна коляска, – сказала Инна, качая ребенка, пока Саша уплетала рисовую – действительно удачно приготовленную – кашу. – Две люльки: простая и авто. Так ты будешь мобильнее, хоть куда-то сможешь брать ребенка. Выбирай полегче и так, чтобы хватило на месяцев шесть-восемь.
Почему-то раньше Саша об этом не задумывалась. Совсем забыла. Действительно, она же когда-то выйдет из больницы. И не одна вернее одна
Следующие несколько часов прошли в ожидании. Катя не появлялась. Инна с Машенькой ушли на реабилитационное занятие, а Саша села искать подходящую коляску дорого и еще дороже дорогого Она и раньше приценивалась к покупкам для ребенка, но тогда их планировалось поручить Марку – это меньшее, чем он мог бы отплатить ей за предательство. А теперь придется самой.
Она полазила на сайтах с новыми колясками и выслала ссылку на один из самых популярных вариантов Инне.
– Норм, – ответила та.
Это «норм» стоило так неподъемно, что хотелось застонать в голос.
– Но зачем тебе новая, смотри хорошую б/у, – почти сразу пришел совет.
Облегченно – да. Ей как будто официально разрешили не стыдиться нежелания тратить на это слишком много денег. Еще пара часов молчаливых переписок по двум подходящим коляскам, и – есть! – договорилась на доставку прямо в больницу. Естественно, за доплату. А ведь расходы только начинаются.
После обеда наконец вернулась Катя.
– Врач сказал, что все прекрасно. Удалили опухоль, взяли материал на биопсию, так по правилам всем положено. Через восемь дней результат, но я уверена, что все будет хорошо! Меня уже к ней пустили, в реанимацию то есть. Бледная, губы сухие, совсем беленькие. Но держалась молодцом. Моя крошка. Мой сладкий зайчонок!
Инна бурно, как положено, поздравляла, и Саша почти улыбалась. Катя возбужденно тараторила, вселяла радость и надежду это если Саше было бы чем ее принимать После долгого напряжения и страха эйфория ударила этой молодой женщине в голову, и струна внутри зазвенела, ослабла.
– Девочки, гуляем!
А вечером оказалось, помимо правил, о которых рассказывала сестра-хозяйка, в отделении существовали и свои, внутренние. Не правила, а поблажки. Во время ужина Инна тихонько предупредила Сашу, чтобы она приходила к десяти в столовую.
– Соберемся, посидим немного. Перекусим, поболтаем. Напряжение надо же снимать, – пояснила она, хотя Саша и не собиралась спорить. Разве ей есть какая-то глобальная разница. А это хоть какое-то разнообразие. Уже хорошо. Она придет, поддержит Катю, съест торт или что там будет.
Но все оказалось немного по-другому. «Немного посидим» – оказалось почти что вечеринкой. Больничной, но все же: негромкая, неслышная из коридора музыка, три бутылки простого, недорогого вина, ароматный чай в пакетиках, пирожные, сыр, колбаса, чипсы, конфеты, что-то еще.
Безобидный санаторий, день рождения в офисе, а не нейрохирургия.
Слышался смех. Основной состав, человек десять, сидел за сдвинутыми столами, поздравлял Катю и ее дочку с удачной операцией. Беспечное щебетание сбило ее с толку. Будто праздник. А, впрочем, почему нет? день рождения малышки В углу у чайников Инна жарко что-то говорила женщине лет тридцати, до Саши долетело: «ну и что, муж».
Она села на свободное место к девчонкам и машинально налила вино. Кислое, вонючее, через два-три обжигающих глотка оно раскрылось, но не новым вкусом, а теплом, пьянящим алкогольным теплом.
заспиртованным безразличием
– Завтра только корми смесью, молоко сцеди, – посоветовала вернувшаяся Инна.
– Я и так, – быстро оправдалась Саша. А ведь она даже и не подумала, что алкоголь повлияет на грудное молоко. – Он же только бутылочку берет.
Вечеринка продолжалась. Она сидела рядом с Инной. Женщины вокруг разливали вино и чай, нарезали торт, шуршали пакетами со сладостями. Дружески перебивали друг друга, говорили много и громко о чужом и своем жире, о еде, правильной и неправильной; о моде на бег; о врачах; о новой детской площадке тут, слева, на территории больницы. И слышались жалобы на мелкие недомогания, болезни, ноющие месячные; жалобы на свекровей, родных стареющих отцов и матерей, жалобы на первых, вторых мужей.
И если сначала Саша напрягалась, то со временем – и количеством выпитого вина – тело начало принимать и отдавать энергию. Тело сигнализировало о приближающейся радости, предвкушало, разжимало пальцы рук, скрюченные в нервном поиске кутикулы, которую можно оторвать; освобождало зажатые мышцы лица.
тела, никакого ее тела только что не было, и вот тело стало
Большой глоток. Как хорошо!
– Девочки, статья попалась, послушайте: «Лучшие качества женщин по мнению мужчин», – засмеялась женщина лет пятидесяти в цветастом халате и с огромной, но при этом не обвисшей грудью.
– Ну-ка, ну-ка, читай, – раздалось с нескольких сторон.
– Мудрость, красота, забота.
– У меня есть, – сказал кто-то.
– Доброта, эмпатия.
– Ну все, я точно не подхожу, – иронично добавила темноволосая молодая женщина с острым птичьим лицом. – Надо сказать мужу. И любовнику.
Кто-то засмеялся.
– А моему надо, чтобы жена с едой на столе встречала. И чтобы только с плиты! Какая тут доброта, мудрость? Он с суток придет, весь грязный, потный, а я его кормить буду этими умными разговорами вместо макарон с мясом? Да херня, он быстрее сбежит. Не, девки, мужику нужно, чтобы дома было чисто, уютно и полно еды, – вставила пухлая, ярко накрашенная женщина с ямочками на щеках.
– Ну почему же, кто-то любит поговорить, – возразила старшая.
– Это можно потом. Если желание останется. У меня самой иногда силы только доползти до кровати и вырубиться. Он ко мне, мол, давай это, то самое, а я уже храплю. Не всегда, конечно. Приходится давать. Он же мужчина, ему хочется.
Глоток.
– Повезло, а мой вообще не пристает. Всегда занят или устал, – грустно ответила тихая смуглая женщина с синими кругами под глазами. Ей явно было меньше тридцати, но Саша дала бы все сорок. – А на зал и пиво с парнями есть время.
– Но ты же недавно родила? И что ты хочешь? – резко вставила молчавшая короткостриженая девушка с большим родимым пятном на лице.
Тихая женщина опустила глаза.
– Беременные, как и мамки, не особо привлекательные. Сама посуди. Сначала ты с пузом, потом кормящая с младенцем. Потерпи. Постарше ребенок станет, нарядишься, накрасишься и сама пристанешь. Ублажишь мужа как надо.
– Может, изменяет? – участливо спросила старшая.
Глоток. Глоток. Глоток.
– Нет, сто процентов нет! – выпалила смуглянка.
– Не смеши. Так он тебе и рассказал, – встряла пухлая с ямочками. – Таня права. Многие женщины с беременности за собой не следят, не моются, не красятся, не стригутся, носят что попало. Дома всегда нервные, уставшие, злые. Понятно, мужчины не выдерживают и уходят к другим.
– Как у меня ситуация, – горько усмехнулась бодрая грушевидная блондинка. – Только мой не ушел. Ох, я эту дамочку хорошо за волосы оттаскала. Нечего к семье лезть. Пизду свою немолодую чесать. А этот тоже хорош. Яйца развесил и пошел. На мне одной хозяйство с коровами и курами, огород, работа, ребенок больной. Ай, что говорить, дурак, получил уже.
Сашу удивило, с какой интонацией говорила женщина о муже: как о непутевом коте, который нашкодил, но она все равно его любит. Поворчит, мокрой тряпкой пару раз замахнется, а потом простит.
любит
– Не выгнала? – спросила Инна.
– Ну а какой смысл разводиться? Мужик-то так хороший. Помогает по хозяйству, как попрошу, деньги в дом носит, много не пьет и не гундит. Оступился, с кем не бывает. Заглаживает вот вину, подарки покупает, пиво носит.
Засмеялись.
А как же любовь, хотелось спросить Саше, но она благоразумно промолчала. Ее «любовь» обернулась грузом весом в три килограмма.
Но не смолчала Катя, миролюбиво сложив руки на груди:
– Я бы так не смогла. Я верю в любовь и верность.
– Да ты, Катя, романтик, – дружелюбно подколола Инна.
– А ты циник? – весело парировала та.
Еще глоток.
– Я рациональный человек! С широкими взглядами, – расхохоталась и подмигнула Саше Инна. – Но я пытаюсь жить в балансе со своими желаниями и ограничениями. И помню, что сама-то не молодею.
Хохот раздался со всех сторон. Саша не удержалась, издала неожиданный и тихий смешок и сразу вздрогнула. Сколько она не смеялась? Вот так, открыв рот, издав любой по громкости звук. Когда это было в последний раз?
Выходит, несколько месяцев, а кажется, несколько лет назад.
– Саша?
– Да? – замерла она. Не ожидала, что соседка бодрствует в час ночи.
– Так шумно. Я тебя все жду. Дети спят, все хорошо. Помоги мне.
– Да-да, конечно, – засуетилась Саша.
Шумно? Вроде музыка негромко играла. Хотя их палата ближе всех к столовой.
– Сердце очень болит, подай таблетки. Круглые такие, белые. Я все не могла уснуть, в столовой так кричали. Достань там в ящике небольшую сумочку. Хорошо, выходит, операция у девочки прошла, раз справляли. Да, эта, открывай ее, не бойся. Белые.
Саша потянула молнию, и на нее дыхнуло приближающейся немощностью и медикаментами. Баночки, крошечные бутылочки, пластиковые капсулы и таблетки в блистерах. Может, витамины. Или после семидесяти-восьмидесяти – а сколько старушке лет? – нельзя выходить из дома без такого набора? Но у ее-то бабушек такого не было.
Да где же нужная пачка?!
– Белые, маленькие.
Нашла!
– Спасибо, сейчас полегче станет. Как операция?
– Врачи говорят, все хорошо. Вот только биопсию надо подождать.
– Дай Бог, хор… хорошая придет. И домой поедут. Восстанавливать… ся. А какие прогнозы с но… ножками?
Кира Степановна говорила отрывисто, медленно, наверное пережидая колющую боль в груди.