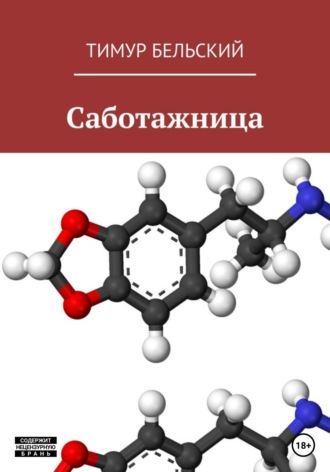 полная версия
полная версияСаботажница
Пока свидетели переваривали увиденное, Ада поймала мой обалдевший взгляд и, схватив меня за руку, потащила за собой, бросив мне всего одно слово:
– Валим.
Я побежал следом за ней, вниз по Аргентинской. Около моста мы поймали такси. Пока мы ехали к Саше, я не мог оторвать от нее взгляда, я смотрел на нее с таким удивлением, что наконец она не выдержала и, резко повернувшись ко мне, выдохнула:
– Ну что?..
– Почему ты это сделала? – спросил я.
В ответ она лишь развела руками. И этот жест явно должен был означать, что для нее ответ был самоочевиден.
В тот вечер нам снова не удалось толком поговорить. Она почти сразу ушла домой, а Саша, когда я рассказал ему о случившемся, лишь обронил:
– Понаблюдай за ней еще.
«Почему бы и нет», – подумал я – и уже в следующую пятницу, когда окрестные наркоманы снова собрались у Саши, имел удовольствие понаблюдать следующую картину.
Одна из девушек, – новая в компании, но тоже старая подруга Веры, – в кухне рассказывала большой группе гостей, как ее домогался хозяин ее съемной квартиры. По ее словам, она решила просто переехать и не рассказывать об этом своему парню, потому что тот «был ужасен в гневе и просто разорвал бы урода». Ада, которая до того момента тихо сидела у окна в Сашином кресле-качалке и скручивала косяк, не демонстируя ни малейшего интереса к разговору, вдруг подняла голову и негромко, но твердо спросила:
– А с чего ты взяла, что разорвал бы?
Девушка опешила.
– В смысле?.. – не поняла она.
– В прямом. Ты когда-нибудь видела, как он кого-нибудь рвал?
– Я знаю, что он…
– А вот я видела, как на него наезжал охранник в клубе на Таховске намести, – перебила ее Ада. – И за полминуты разговора твой разрыватель обосрался не меньше трех раз. Тебя-то он убедил в том, что он Рэмбо; но если он вообще хоть раз в жизни надевал боксерские перчатки, то было это еще в первом классе – и даже тогда его отпиздили другие дети.
За этим, разумеется, должен был последовать скандал – но Вера, к ее чести, оперативно уволокла подругу в другую комнату. Ада, молча проводив их взглядом, подмигнула нам с Сашей – и вернулась к своему занятию.
После того вечера она опять исчезла на какое-то время. А когда снова стала появляться у Саши, я еще не раз становился свидетелем того же шаблона поведения: стоило только кому-то из присутствующих начать чем-либо бахвалиться, как она тут же выпускала свое жало. Казалось, у нее была нулевая толерантность к завышенной самооценке и нарциссизму – даже в самых гомеопатических дозах.
Так, например, она могла осадить парня, распространявшегося о своих сексуальных похождениях, словами «я видела пару твоих подруг – ни одна из них даже не тройка из десяти».
Или, как-то раз, студентка Карлова университета, по выходным танцевавшая стриптиз в «Капитане Немо», в ее присутствии утверждала, что танцовщицы, вопреки стереотипам, «умные, талантлвые и разносторонне развитые девчонки», и если стриптизерша производит на клиента впечатление полной дуры, то это лишь потому, что ей самой так проще с ним общаться. И, честно говоря, я бы постеснялся целиком воспроизвести тот комментарий, которым отреагировала Ада – но смысл его сводился к тому, что умные и разносторонне развитые девушки не раздвигают ноги в комнатах для привата.
Одному программисту с Украины, сетовавшему на то, что он в профессии десять лет, а все коллеги, с их собственных слов, зарабатывают куда больше, она терпеливо объясняла, что девяносто пять процентов людей мгновенно превращаются в патологических лжецов, когда речь заходит про их зарплату, и буквально не способны контролировать себя; сказанное ими нужно делить на три, и, на деле, большинство из них удавились бы за оклад в несколько тысяч евро.
Но окончательно она сразила меня одним коротким монологом, обращенным к знакомой рейверше, называвшей своего ухажера (который был намного старше и периодически воспитывал ее рукоприкладством) «невероятно харизматичным человеком»:
– Ради Господа нашего, не фантазируй при мне о его «харизме», а то я, с божьей помощью, блевану. Ты даже в общем не представляешь себе, что это такое. Ты думаешь, что он харизматик, потому что производит много шума? Но это не маркер харизматика, это маркер идиота.
Я все ломал голову над причиной этих демаршей. Что-то подсказывало мне, что дело было не в дурном характере. Например, Сашу – который, по крайней мере на словах, считал себя безнадежно плохим сценаристом – она всячески поддерживала в его попытках написать что-то стоящее и, кажется, читала все его опусы, всякий раз находя честный повод для доброго слова – при том, что они даже не были друзьями. И я, кажется, просто ждал подходящего момента, чтобы задать этот вопрос – подсознательно понимая, что второй шанс мне едва ли представится.
И вот однажды, прохладной июльской ночью, мы вместе курили кальян и пили чай на Сашиной террасе, завернутые в пледы и крепко обдолбанные. Не помню, как, но разговор зашел о субкультурах: я говорил, что не понимаю людей, которые, купив чоппер, тут же бегут записываться в ближайший мотоклуб. Ада понимающе кивнула:
– Или, скажем, вешают на себя цепи, чтобы продемонстрировать вкус к хард року?
– Именно… Хотя, будем честны, рейв – тоже субкультура. И ведь мы оба здесь.
Ада покачала головой.
– Я не ношу все эти балахоны, как ты мог заметить. Не коллекционирую статуэтки Ганеши, не рисую на себе узоры хной, не верю в просветление через медитацию. Не верю, что за всем этим есть хоть какая-то идеология – или даже самая ничтожная идея. Не верю, что прием кислоты хоть кого-то, когда-то сделал хоть на йоту умнее. Я просто употребляю, и приятно провожу время. И ребята, – она сделала жест в сторону гостиной, – на самом деле, тоже, просто не знают этого. Или знают – но не скажут вслух.
«А ведь она права», – подумал я.
Ада вздохнула.
– Народ употребляет психоделики, и на полном серьезе думает, что это поможет выудить ответы оттуда, где их никогда не было.
Она передала мне трубку; набрав в легкие дыма, я осторожно выпустил его в пустой бокал из-под колы.
– «Что там в это время года на Титане?» – улыбнулась она.
– Знаешь тот старый фильм?..
– Обожаю его.
И именно в этот момент, словно по какому-то наитию, я задал ей свой вопрос. И я даже не могу вспомнить, как именно сформулировал его – но, очевидно, и слова, и вечер, и количество МДМА оказались подходящими – и Ада рассказала мне историю, которая, наконец, расставила все по местам.
…Отец Ады был военным, и, когда она была маленькой, семья часто переезжала. Девочка успела сменить несколько школ, и везде хорошо адаптировалась, пока последним переводом отца не отправили дослуживать в Волгоград. Там его и забрала онкология – не без помощи местных врачей, которые усердно прогревали опухоль, приняв ранние симптомы за бронхит. Это произошло так быстро, что она даже не помнила периода его болезни. Словно в один день папа был совершенно здоров, а на следующий его уже хоронили. И так они с матерью остались вдвоем в совершенно чужом городе – и в который раз девочка пошла в новую школу.
Новая школа встретила ее очень плохо. Не то, чтобы на это были какие-то особые причины – просто стадо выбирает для травли того, кого выбирает. И это была бы обычная история про гадкого утенка, если бы не одно но: утенок не был гадким.
Вскоре начался пубертат, и девочка очень быстро расцвела. В старших классах она была самой красивой в школе. Рассказывая мне о том времени, несмотря на весь анестезирующий эффект МДМА, она явно опускала детали и старательно подбирала самые обтекаемые выражения – но я мог бы суммировать все услышанное в одной короткой фразе: она слишком рано узнала слишком много о природе людей.
Одноклассницы ненавидели ее до боли в зубах, распуская о ней грязные слухи. Юноши в школе в лучшем случае демонстративно игнорировали ее. Но те же самые юноши пытались подкатывать к ней, когда им казалось, что об этом никто не узнает – и тогда, не получив в ответ ничего, кроме ледяного презрения, бедные ублюдки писали ей по вечерам похабные СМС, не понимая, что они давным-давно в черном списке и адресат ничего не прочтет.
И именно это, по ее словам, больше всего поразило ее тогда – желание этих одноклеточных оставаться частью стада превалировало у них даже над инстинктом размножения.
Закончив школу, она единственная из всего выпуска уехала учиться за границу. Мама умерла в том же году. В Россию она больше не возвращалась.
…Когда она договорила, мы некоторое время сидели молча. Не то, чтобы я совершенно не знал, что сказать – скорее, был заворожен внезапной полнотой картины. Наконец, она прервала затянувшуюся паузу.
– Так что ты скажешь? – ее тон показался мне искусственно-безучастным.
– Кажется, только теперь я действительно понял, почему ты залила перцовкой того карлана, – ответил я.
– И почему же?
– Тебе противна сама идея, что люди могут создавать какие-то иерархические структуры.
Она задумалась. Потом усмехнулась.
– Никогда не выразилась бы так – но, похоже, что да.
– А ведь это естественно для всех приматов, – зачем-то добавил я, прекрасно понимая, что это не относится к делу.
Тогда Ада нагнулась ко мне, взяла меня за руку и, посмотрев мне в глаза со всей возможной серьезностью, раздельно произнесла:
– Мы с тобой не приматы.
И ушла. В смысле, не от меня, и даже не в другую комнату – она ушла с вечеринки. Она и прежде такое делала – исчезала посреди разговора – но на этот раз оставила меня с таким мерзким чувством, как будто я что-то сломал.
5
Молекула МДМА, открытие которой ошибочно приписывают доктору Шульгину, известна своим гуманным отношением к пользователю. Для МДМА нет никакой разницы, в хорошем вы настроении или в плохом, как прошел ваш день, в каком окружении вы находитесь. При соблюдении некоторых предосторожностей, она просто делает свою работу, с гарантией и без сюрпризов.
Она не способна вызывать зависимость, и не мучает психонавтов абстинентным синдромом.
Она не лишит вас работы, не вынудит заниматься проституцией и не заставит выносить из дома мамин телевизор.
Но есть одна вещь, к которой экстази имеет нулевую толерантность – и это частое употребление.
Мы с Сашей бессовестно поступили с МДМА. Поправ все принципы сознательного использования, постепенно повышая дозу, к концу лета мы стали принимать его в действительно угрожающих количествах. Я до сих пор с содроганием вспоминаю те трипы, когда, в насквозь мокрой от пота одежде, практически не помня себя, мы бесцельно шатались по городу, останавливаясь, только чтобы купить воды, догнаться или сообща попытаться вспомнить, куда мы держим путь.
В один из таких августовских вечеров мы лежали рядом на брусчатке Староместской площади, глядя в ночное небо; камни отдавали нам накопленное за день тепло, а вокруг нас, группами по несколько человек, прямо на мостовой сидели туристы и экспаты с разных концов света – и вся эта толпа курила, слушала музыку, шумно разговаривала. Атмосфера, надо признать, была своеобразно праздничной – но Саша жаловался на слишком яркий свет фонарей и на то, что люди мешали ему медитировать на пустоту. В конце концов, плюнув на это занятие (или просто позабыв о нем), он закурил, выпустил в небо струю дыма с такой силой, словно целился в Луну, и неожиданно, без всякой связи с предыдущим разговором, сказал:
– Надо бы сочинить вопль двадцать первого века.
Каким-то непостижимым образом я сразу понял, что он имел в виду.
– …Как лежааали обдооолбанные на брусчатке Староместской плооощади?.. – подсказал я, зачем-то растягивая гласные.
– Точно! – Саша оживился. – Как лежали обдолбанные… как лежали обдолбанные… – он умолк. Либо муза в этот вечер оставила его, либо дрейфующий в море серотонина мозг утратил нить. Под МДМА такое бывает.
– …Я говорила, что они не просто друзья, – услышал я знакомый голос.
– …Ради такого я встану! – закричал Саша, который тоже узнал Веру. Несколько туристов из ближайшей к нам группы испуганно оглянулись; что характерно, Саша не только не сделал попытки встать, но даже не открыл глаза.
Чья-то прохладная ладонь легла на мой лоб; опустившись позади меня на колени, Ада наклонилась ко мне так близко, что ее длинные, огненно-рыжие волосы касались моего лица. Какое-то время она настороженно смотрела на меня, затем мягко спросила:
– Ты не простынешь?.. Вы вообще в порядке?
Ее тон показался мне необычно ласковым.
– Брусчатка с подогревом, – пробормотал Саша, по прежнему не открывая глаз. – Мама, я в Рейкьявике!
– Прилягте рядом, здесь шикарно, – подтвердил я.
Вера с сомнением оглядела мостовую: мусор, сигаретные окурки и пятна неизвестного происхождения. Ада, не говоря ни слова, сняла с себя шерстяной жакет, и, сделав из него подобие длинной подушки, один конец подложила мне под голову, а на другой легла сама.
– Может, вам снять комнату? – спросила Вера.
– …А разве мы не в комнате? – удивился Саша. Вопрос прозвучал так, что я подумал, что он не шутит.
Вера расхохоталась.
– Ну, а с тобой что такое?.. – она легко потормошила его за плечо. – Что ты ел?
Последовала небольшая пауза.
– Эмку и пару конфет с ТГК, – вспомнил Саша. – Вы удивитесь, но весь этот сброд, – не исключая и вас, – шумит ровно так, как и должен шуметь. При всем желании вы, ребята, не могли бы шуметь иначе.
– Да ну? – Вера присела рядом с ним и прикурила от его сигареты. – И как ты это понял?
– Не рассказывай никому, но, когда я закрываю глаза, я натурально вижу эквалайзер. Всю внутреннюю структуру этого шума. И это отвратительно, но, вместе с тем, как же это логично.
– А почему он в Рейкьявике? – шепнула мне на ухо Ада. Прикосновение ее губ заставило меня вздрогнуть.
– Там асфальт с подогревом, – так же, шепотом ответил я. – Под него укладывают трубы, и по ним подают горячую воду.
– Круто, – она вздохнула.
– Я вызываю такси, – Вера потушила едва начатую сигарету и, встав на ноги, сладко потянулась. – Поедем в «Централу». Пока вы не застудили себе почки.
– А что там сегодня? – Саша впервые за все время посмотрел на нее.
– Ничего особенного; просто хочу потанцевать.
Он неопределенно хмыкнул.
– По-моему, мы обезвожены и у нас предынфарктное состояние. Может, не стоит нам скакать в этой душегубке.
– Это называется измена, – сухо ответила Вера. – Поднимайся. Доедем, куплю тебе целое ведро мохито.
Такси, как обычно, приехало черт знает куда. Мы шли пешком до самого Карлова моста, где в итоге и обнаружили древнюю «Октавию», мигающую аварийкой, с раздраженным пожилым чехом за рулем. Поездка до Голешовиц заняла меньше десяти минут; в конце выяснилось, что ни у кого нет наличных – но Саша выкрутился, предложив водителю два стокроновых ваучера на обед. К моему великому удивлению, чех согласился.
– В следующий раз попробую сторговаться за сэндвич, – сказал Саша, когда мы вылезли из машины.
У входа в «Централу» ошивалась целая толпа рейверов. В воздухе стоял сильный запах конопли. Изнутри доносилась музыка, и Вера тут же схватила нас с Адой за рукава и потянула за собой, в подвальное помещение, где на душном, тесном танцполе буквально нельзя было протолкнуться, а музыка играла так громко, что было не слышно собственных мыслей.
Что происходило в следующие два часа, я помню слабо. Я пытался двигаться под музыку, но на танцполе было так мало места, что стоило мне на несколько мгновений закрыть глаза и поймать то непередаваемое ощущение транса, ради которого люди и приходят на рейв, как меня грубо выводили из него локти и плечи окружающих. В какой-то момент я обнаружил, что потерял и девушек, и Сашу. Раз или два я уходил в туалет, чтобы догнаться, и в бар, чтобы выпить сока; поднимался наверх, чтобы подышать свежим воздухом – но нигде не мог их найти.
Было около двух ночи, когда Ада сама меня нашла. Буквально за минуту до этого я в очередной раз почувствовал, что меня начало отпускать. Это состояние, возможно, лучше всего описывает библейская строка «и было падение его великое». Мы вышли на улицу, держась за руки – словно дети, которые боялись снова потеряться. Уже наверху она спросила:
– Как себя чувствуешь?
Я только пожал плечами в ответ – и она сразу все поняла.
– Начался выход?
– Только что.
– Добро пожаловать в клуб, – она кисло улыбнулась. – Не видел остальных?
– Никого.
Она о чем-то задумалась. Затем, поправив воротник моей рубашки и почему-то не глядя мне в глаза, сказала:
– У меня дома есть еще немного.
Я удивился: такого прежде не происходило. Мелькнула здравая мысль, что нам уже хватит, что нужно было остановиться еще миллиграмм триста назад – но предложение было слишком заманчивым.
Словно угадав мои мысли, она добавила:
– Если нас не убили последние три месяца, то еще пара дорожек точно не убьют.
Когда мы сели в такси, она сняла с себя обувь и свернулась на заднем сиденье калачиком, положив голову мне на колени и закрыв глаза. В дороге мы почти не разговаривали, она только сказала:
– Разбуди меня, когда будем в Бжевнове, – хотя было понятно, что уснуть она все равно не сможет.
Минут за пятнадцать мы добрались до ее дома. Выключатель у двери в подъезд оказался сломан, Ада долго шарила рукой по стене в поисках запасного и, в конце концов, включила фонарик на телефоне.
– …Энергосбережение по-чешски, еби их мать, – вздохнула она.
Лифт тоже не работал, и мы поднялись на последний этаж пешком. Ада арендовала маленькую студию с застекленной террасой, ее окна выходили на улицу Белогорскую. Меня очень удивило почти полное отсутствие вещей в квартире: на террасе, прямо на дощатом полу лежал матрас с парой подушек и стоял низенький столик, а в единственной комнате не было ничего, кроме кухонного гарнитура и стенного шкафа с совершенно пустыми полками. Кроме этого, в прихожей стоял небольшой комод – где и помещалась вся ее одежда и личные вещи.
– Ты что, недавно переехала? – спросил я.
Она покачала головой.
– Нет, еще весной, просто выбросила и раздала кучу барахла со старой квартиры. Посмотрела какую-то документалку про минимализм – и захотелось попробовать.
– Пока получается… – слегка ошалело заметил я. Я и сам в последние годы пытался играть в минимализм, по возможности избавляясь от всего лишнего – но Ада оставила меня далеко позади.
Пока она растирала кристаллы МДМА в порошок, я не выдержал и спросил у нее:
– Послушай, а ты вообще настоящая?..
Она рассмеялась и ничего не ответила. Затем достала откуда-то сторублевую купюру, аккуратно свернула в трубочку и передала мне.
– Непохоже, что здесь немного, – заметил я.
– Я без понятия, – она только пожала плечами.
Я убрал одну дорожку; она повторила за мной и на секунду зажмурилась.
– Мерзко? – спросил я голосом, полным сочувствия.
– Еще как, – она посмотрела на меня. – Я схожу в душ, а ты располагайся, окей? В холодильнике есть кола.
Она скрылась в ванной, а я остался один дожидаться прихода – и буквально через минуту почувствовал, что вечеринка продолжается. Эта эмка явно отличалась от Сашиной – она «мазала» гораздо сильнее, и мне захотелось просто прилечь на террасе и расслабить мышцы.
Я не знаю, сколько времени я провел там в полубессознательном состоянии. Я не слышал ни как прекратился шум воды, ни приближающихся шагов Ады. Но она позвала меня – и я сразу же открыл глаза.
Она стояла рядом в одном полотенце, и, чуть склонив голову набок, другим вытирала волосы.
– Ну как, получше?
Я кивнул.
– Как тебе здесь?
– Роскошно, – честно ответил я. – С легким паром.
– Спасибо… ты сам не хочешь?
– Я, наверное, не встану отсюда в ближайший час.
– Понимаю. Может, включить какую-то музыку? Или, если хочешь, могу спросить у соседки снизу кальян. Она тоже полуночница, почти наверняка не спит.
Я немного подумал.
– Нет, не нужно… честно говоря, я бы просто хотел обняться.
Она улыбнулась.
– Дай мне пару минут, я только высушу волосы.
Когда она снова вернулась, на ней было короткое домашнее платье. Она легла рядом, повернулась ко мне спиной и вплотную придвинулась ко мне, а я обнял ее за талию и зарылся лицом в ее волосы. В тот момент я, кажется, даже мог слышать, как она улыбалась.
– О чем ты думаешь? – спросила она через некоторое время.
– Думаю, мне нужно будет поговорить с тобой, когда мы оба будем трезвыми.
– А почему нельзя сейчас?
– Это один из уроков, которые я усвоил в последнее время: если действительно хочешь что-то сказать, не делай этого в трипе. Иначе это обесценит разговор.
– А откуда ты знал про асфальт в Рейкьявике? – вдруг спросила она. – Ты бывал там?
– Нет, не довелось. Просто в детстве я писал какой-то дурацкий школьный доклад про Исландию. Это было, кажется, лет сто назад. Возможно, больше.
– Всегда мечтала увидеть Исландию, – Ада вздохнула. – Летом можно поймать прямой рейс. Но я уже столько лет собираюсь.
– Сейчас лето, – заметил я. – Ничто не мешает нам купить билеты.
– Не говори такого в трипе, – она усмехнулась.
– А что такого особенного в Исландии?
Она задумалась.
– Даже не знаю, с чего начать, – ее голос показался мне несколько обескураженным. – Раз уж ты знал даже про обогрев мостовых, то, наверное, знаешь и про вулканы, и про водопады, и про людей, которые совсем не похожи на нас, и говорят на языке, который не менялся тысячу лет. Может быть, все это не так уж и интересно; может, я романтизирую место, в котором никогда не была. Но я действительно хотела бы увидеть все своими глазами… и понадобится машина, и недели две отпуска, чтобы объехать остров… да, думаю, двух недель хватит…
Она все говорила и говорила, и тембр ее голоса вдруг стал таким убаюкивающим, а я был настолько размазан, что почувствовал, что начинаю погружаться в какую-то странную полудрему. И это могло быть чем угодно, только не сном – было невероятно, чтобы человек в подобном состоянии смог уснуть.
– …А как вышло, что ты вообще помнишь свой школьный доклад, который писал давным-давно, в детстве? – ее вопрос ненадолго вернул меня к реальности.
– Черт его знает… Часто замечал, что мозг сам запоминает всякое бесполезное говно. Зато на работе я по триста раз переспрашиваю вещи, за знание которых, предполагается, мне и должны платить.
Она тихо рассмеялась.
– Знаешь, если немного покопаться в памяти, и я вспомню пару работ, которые писала в выпускном классе.
– О чем они были?
– Ну, например, большое эссе о Мэрилин Монро.
– Мэрилин Монро… – протянул я, уже чувствуя, что снова проваливаюсь куда-то внутрь себя. – Печальная судьба. Грустно, что такая красивая женщина убила себя от одиночества.
Ада тяжело вздохнула.
– Мэрилин Монро не убивала себя, – сказала она. – Ее убили братья Кеннеди, чтобы она не рассказала всему миру, какие маленькие у них были члены.
6
На следующее утро, даже не проснувшись до конца, сквозь полудрему я почувствовал что-то неладное.
То, что я обнимал во сне – было чем угодно, только не Адой. И где-то в глубинах затуманенного сознания я сразу же понял, что случилось. Я понял это прежде, чем посмотрел на нее.
Ада лежала на боку с закрытыми глазами; кожа ее стала бледной, губы – черными, рот был приоткрыт.
Я медленно сел на кровати и отвернулся от нее. Не меньше получаса я провел там, вместе ней, бессмысленно глядя в одну точку за окном. Затем стал искать свой телефон.
Его нигде не было – я либо выронил его накануне, либо им поживился карманник. Ее телефон лежал на прикроватной тумбочке; сняв блок ее указательным пальцем, я набрал «112».
7
У Ады, как и у любой другой рейверши, было много друзей. Но ни один из них не потрудился прийти на ее похороны.
Вообще, похороны – довольно муторное мероприятие. И было не удивительно, что просветленные умы не захотели «негативить себя» путем их посещения.
Мне кажется, я обзвонил тогда человек тридцать. И, повесив трубку в последний раз, испытал удивительное ощущение: я был готов поклясться, что все это время говорил с одним и тем же человеком. А больше всего меня поразило то, что не пришла даже Вера. Они ведь были лучшими подругами.
Но зато появился Саша. Хотя они никогда не были особенно близки, но он сам позвонил мне, узнал дату и время – и пришел, в строгом черном костюме, тщательно выглаженной рубашке и совершенно трезвый.
Когда все закончилось, мы приехали в Смихов на такси. Саша предложил зайти к нему, но я почувствовал ужас при мысли, что опять увижу его вечно загаженную гостиную, с немытыми кальянами и следами дорожек на каждой ровной поверхности. И тогда мы отправились пешком куда-то на север, через Малу Страну – и дальше, в Голешовицы. Мы просто шли, куда глядели глаза, без всякой цели.




