
Полная версия
Сёма-фымышут 8—4
Второй набор в технический «восьмой-четвёртый» класс, напомню, был экспериментом. По инициативе академика М. А. Лаврентьева создали технические классы с трехгодичным обучением на базе КЮТа (Клуба Юных Техников).
Первый набор вдохновил, обнадёжил учёных и педагогов. Научный совет решил продолжать эксперименты и приглашать в академическую школу детей продвинутых не только в науках и общественных знаниях, но и в технике. Детей рукастых, головастых, с природной смекалкой и сообразительностью.
По дальневосточным, зауральским, средне-азиатским, прочим задворкам социмперии, преуспевающей, в основном, на бумаге, в лозунгах, в «бурных и продолжительных аплодисментах» на партийных съездах, а так же, реально, – в космосе и вооружении, – проехалась комиссия из Академ-городка, созвала на отборочный конкурс в Летнюю школу самых, что ни на есть, – странных, неуёмных, непоседливых. В общем, одарённых.
Мальчишек, пропахших горючкой с примесью эфира и касторки для авиа-, авто- и судомоделей. Умельцев, способных в третьем классе начать с малого: выпаять крохотный детектор из родительского приёмника «Турист» или «Регонда»», сунуть с примитивной электросхемой в спичечный коробок, с увлечением слушать радиостанцию «Маяк» с друзьями у подъезда, прицепившись проводком, используя в качестве антенны пожарную лестницу трёхэтажного жилого дома.
Будущих верных друзей умеющих выслушать проблемы друг друга за «грузинским» чаем, заваренным водой, вскипяченной керамическим сопротивлением в стеклянной, литровой банке.
Детская мешанина, несуразица, хаос в головах, набранных в Летнюю школу, ребят, казалось, не вязалась с академической сложностью, стройностью и теоретической грандиозностью учений здравствующего в те времена, например, академика Ляпунова, по учебникам математики которого им предстояло учиться.
Но руководители выездных, отборочных комиссий были смелыми, рисквыми молодыми учёными. Они решили соединить несовместимое, понаблюдать в процессе учёбы за детьми «продвинутыми» и неординарными в академической науке и за детьми практического ума и соображения. Создать симбиоз для научного и практического взрыва идей будущих инженеров и учёных. Хотя, надо сказать, некоторые из наших одноклассников окончили седьмой класс средней школы круглыми отличниками и в математике «шарили» ничуть не хуже «надутых восьмиклашек» – «академиков». о
Второй, в истории школы, набор в наш класс, извините за напоминание, был продолжением первого эксперимента. И не претендовал на свою букву «Тэ» в математической формуле школы «Фэ-Мэ-Ша».
Именно «Фэ», именно «Мэ». Не помню, чтобы кто-то называл школу по грамматическим правилам через «эФ» и через «эМ».
После зачисления в «восьмой – четвёртый -технический», который через год станет «девятым-первым», мальчишки узнают, что «академики» – ученики других восьмых классов, прозвали их небрежно – «трактористами».
Бойкие, смышлёные, пацаны впервые оторвались от родителей, приехали поездами, слетелись самолётами со всего Союза в замечательный научный городок среди высоченных сосен близ широченной реки Обь. Мальчишки освободились от опеки «родичей» и были в восторге от «полной» свободы. Им было наплевать, кто и как из ровесников обзывается «за глаза». За «обзывки» в лицо можно было тут же заработать в глаз. У «трактористов», при личном оскорблении, как вы понимаете, кулак в кармане не залёживался. Ученики «восьмого-четвёртого» сами себя называли «техниками» или «технарями». К десятому классу они отучили, кого бы то ни было, оскорблять и обижать технарей даже словесно.

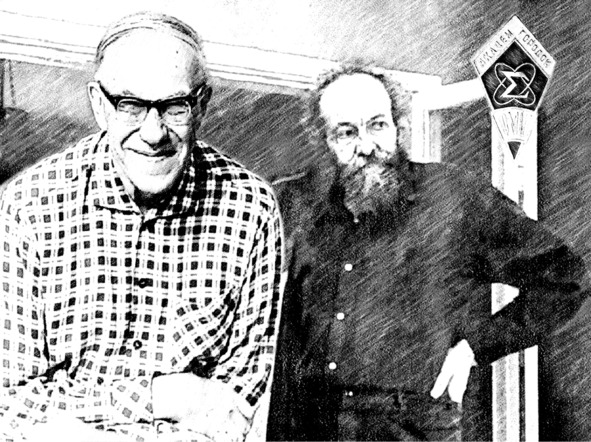
ОШИБКА
По Летней школе Сёму почти никто из наших не запомнил. Или не захотел вспомнить, каким образом он прошёл перед сентябрем дополнительное собеседование в актовом зале КЮТа, где сообщали, кто остается учиться в ФМШ, кто уезжает домой.
О конкурсном отборе претендентов в ученики, юных абитуриентах – отдельный рассказ.
Пока что про Сёму. Его короткая история в «Академе» – своеобразная, карикатурная метафора нашей школьной жизни, через которую, как в кривом зеркале отразились некоторые судьбы одноклассников и «одношкольников», особенно тех, кого исключили после первого семестра и зимних экзаменов или после восьмого класса по разным причинам, не только за неуспеваемость.
Письма с просьбой об уточнениях, замечаниях, пожеланиях были написаны многим. Не многие откликнулись, ссылаясь на занятость.
Особая благодарность – Юрику Ажичакову, Андрею Чигрину, Сергею Гурину за полезные поправки, дополнения и развернутые электронные послания. Надеюсь, в продолжении данной экспериментальной повести в «письмах» эти записи найдут должное место в текстах.
Пока же, не обессудьте, друзья, досужим домыслам и фантазиям «собирателя историй». Ничего не помешает дополнить сие писание следующим «Письмом про…», уточняющим, что и как было на самом деле.
Учились в ФМШ не по четвертям, как в обычной средней школе, а полугодиями, семестрами. Сёму, повторюсь, мало кто запомнил по первому, самому тяжёлому семестру восьмого класса.
Это было суровое испытание – семестр привыкания к усиленной, сложной программе обучения ФМШ, по сравнению с занудной «долбёжкой» материала, заученного учителями, так себе, средней общеобразовательной школы. Это была пора впервые осознанного, полного самоконтроля, когда ученик решал сам: учиться или «сачковать», выполнять или списывать у друзей домашнее задание. Когда волен был гулять по «Академу» до одиннадцати вечера, но должен был успеть вернуться к «отбою» и не получать за нарушение дисциплины нагоняи и выговора, за которые позже исключали из школы.
Насколько мне удалось его узнать, Сёма не был тихоней, но был «тихушником», казалось бы, ничем непримечательной личностью в потёртом, драном, чёрном пальто с рукавами в бахроме растерзанных ниточек.
Мне он врезался в память при первой же встрече диким выкриком-приветствием в полутёмном, длиннющем коридоре общежития.
– Зиг хай! – гаркнул незнакомый мальчуган, возникнув чёрной тенью в тёмном проёме двери комнатного блока четвертого этажа общежития.
В одном блоке, с коридорчиком, «умывалкой» и туалетом, – было по две комнаты, для проживания двух и трёх учеников.
Выкрик обошёлся без вскинутой руки незнакомца. От неожиданности у меня неприятно ёкнуло сердечко. Хотя в драку в детстве бросались мы довольно смело и безрассудно.
– Дедушка у тебя фашист? – мрачно пошутил я.
– Немец, – пояснил незнакомец. – С Приволжска.
В 1971 году не принято было высказывать знание немецкого языка таким диким, «громким» образом. У многих деды и отцы воевали и погибли во Второй мировой, Отечественной и даже Первой мировой войне.
Сёме эти выкрики прощали. Но не все.
Режиссер Лиознова снимет знаменитый телефильм про Штирлица, про «Семнадцать мгновений…» позже, через два года, в 1973 году. Актёра Тихонова в роли штандартен-фюрера будут обожать не только девчонки и мамы. Полюбят актёра Броневого в роли гестаповца Мюллера, Визбора в роли Бормана.
Странную выходку Сёмы я тогда не оценил.
– Зачем так орать? Как зовут?
– Сёма, – откозырял он. – Обер – лейтенант.
– Прям обер и прям лейтенант?
– Прям – прям, – мрачно отшутился незнакомец. – Можно просто, – Обер.
Понятно, за бравым выкриком Сёмы, за его выдуманным воинским званием скрывалась тайна его немецких предков. Первые дни учёбы в необычной школе разгадывать подобные загадки не очень-то и хотелось. Мальчуган в застёгнутом наглухо, потёртом пальто с поднятым воротником, на искусственном меху, этакий малолетний сторож отдельно взятого комнатного блока общежития, поначалу вызвал неприязнь, как нечто чужеродное, «тёмное», не из моей «светлой» жизни. Хотелось быстрее от него отвязаться, будто стряхнуть налипшую на новенький, школьный костюмчик грязную обёртку чужой конфеты.
– Рядовой, – отшутился я и назвал фамилию.
– Знаю. У тя батя лётчик.
– Пилот. В гражданской авиации – пилоты, в военной – лётчики. Отец так говорил.
– Понятно. Буду звать тебя «унтер-официрен». Или – «Унтер». Сойдёт?
– Нет, – и назвал своё имя.
– Унтер – лучше, – не унимался Сёма.
– Кому лучше? – мне надоело спорить с новым странным, назойливым одноклассником. Развернулся, молча, и ушёл.
Кличка «Унтер» не прижилась. Месяца три Сёма называл меня именно так. Я не откликался. Другие не обращали внимания. «Обер-лейтенант» в Сёме смирился и не смог мне придумать подходящей клички или прозвища.
Хулиган, проныра и непоседа, из посёлка Попеновка, пригорода тогдашнего Фрунзе – столицы Киргизской ССР, Валерка Колб успел в Летней школе прозвать меня Серым, производной от имени. Прозвище категорически не нравилось. Но яркость натуры надо ведь доказать жизнью, а не словами. С «серой» кличкой пришлось на время смириться.
Позже Сёма выдвинул своеобразную теорию о цветных мирах. Сам «обер-лейтенант», как он пояснил, был из «Серой зёмы». Из Серой, как я понял, зоны, земли, мира. Тогда я не знал, что «зёма», в народном сёмином сленге, означает ещё и земляк, земеля.
– Сёма из Зёмы, – пошутил я. – Понятно.
«Обер» фыркнул небрежно, оценил радушие и «незлобливость» «противника» и не обиделся.
– Может, из «зёмы» Серых, – уточнил он, задумался, не согласился сам с собой и совсем уж заморочился:
– Нет. Из «Серой зёмы» с Чёрной «подзёмой».
Он снисходительно, неприметно усмехался, когда Колб называл меня Серым. В доверительных беседах наедине предположил, что я – из «Оранжевой зёмы», где «красивные радуги», жёлтое солнце, «добрые люди» и тёплые, вкусные дожди.
Думаю, Сёма слышал известную тогда песню со словами, как мне помнится, «Оранжевое небо, оранжевые дети, оранжевые песни, оранжево поют». Отсюда его ассоциации относительно меня. Не стал спорить и возражать. Пусть будет так: я – из «Оранжевой зёмы».
В «Серой зёме», по мрачным рассказам «обер-лейтенанта», дожди были кислые-прекислые, прям «кисляндия»! От осадков, в виде кислотного дождя, «лезла» кожа, выползали на морде и «везде» прыщики, фурункулы и язвы. Злые люди жили – были повсюду: в балкх, бараках, в школе, и на самом руднике. В «Серой зёме» никогда не бывало на сером небе цветных радуг. а
– Одна серятина, – нахмурился Сёма. – Чёрные тени у нас тоже есть. Забой в руднике – чёрный. Дыра. Страшенная. Ночь – тоже тень, чёрная. Глыбокая – преглыбокая, как шахты, как… смерть.
В безветрие из труб рудника поднимались столбы серо-грязного дыма, загибались над сопками огромными тенями горбатых «мертвяков», рассыпались в пыль и прах, накрывали, придавливали рудник и посёлок серой, дымной, тяжёлой крышкой.
«Серая зёма» и «Белый мир» Сёмы
Дышать в такие дни становилось невыносимо трудно. Бредёшь в ядовитом тумане и сипишь, сипишь, будто больной, немощный старик. Задыхаешься. К вечеру ветер дунет в сторону рудника. Можно жить дальше, дышать полной грудью, а не втягивать воздух струйкой, со свистом сквозь зубы и не задыхаться, как рыба в пересохшем пруду.
– Не посёлок, а гроб с яйцами, – мрачно пошутил Сёма.
Почему с яйцами? Оставалось для меня долго загадкой.
К зимней сессии «обер – лейтенанта» не допустили, за неуспеваемость по всем предметам. Перед расставанием, в один из вечеров, валяясь одетым на «голой», панцирной сетке кровати, он рассказал свои наблюдения за муравейниками, куда «сопляком» безжалостно совал палочки, будоражил муравьиный народец, выковыривал белые продолговатые, как рсинки, яйца, наблюдал за паникой крохотных жителей. и
Пока однажды фронтовик, инвалид Чванов не отругал мальчугана:
– Не делом ты занят, малц! И в нас так вота кто-то сверху тычет палкой. Вишь, я без ног остался. е
Сёма призадумался, бередить муравейники с тех пор перестал. Теперь весь посёлок с рудником казался ему большим муравейником… с яйцами.
Мрачная философия жизни «отставного» «обер-лейтенанта» была далёкой от моего понимания того благополучного, светлого и счастливого мира, в котором я жил с родителями до приезда в ФМШ.
Научный городок нам предоставил возможность попасть в сияющий мир свободы, радости и познания.
– Академ из какого мира? – спросил я. – Какая «зёма»?
– Белая, – уверенно ответил Сёма. – И – Зелёная. В сосняках. Здесь всё белое: дома, школа, магзины – белые. Класс! Да. «Белая зёма». Точняк. Белая, – повторял он с придыханием и затаённой радостью. – И Зелёная. Запашстая. Сосняк везде. У нас на посёлке трава, кусты, даж листья на деревьях – серые. а и
Казалось, свою теорию о цветных мирах, зонах и землях Сёма совсем недавно открыл для себя самого, именно в «Белой зёме», в чистом и ухоженном Академ-городке учёных. Для меня открыл тоже. По дружбе. Хотя дружбы как таковой не случилось. Не успела зародиться. Было общение, порой вынужденное. Были разговоры на разные, сложные темы.
Но дружбы – нет, не случилось. Слишком мало времени Сёма пробыл в ФМШ.
Чем больше я узнавал неухоженного, замкнутого мальчишку, узнавал подробности жизни в его жутком посёлке при «железном» руднике, о тяжкой судьбе его несчастной матушки, о пьянчуге и драчуне отчиме, тем больше убеждался: Сёма прав – он из Серого мира, из «Серой зёмы».
Или из мира Серых, тут уж кому как глянется, мрачная философия жизни самозванца – «обер-лейтенанта».
Не знаю для кого как, но хулиганистый Сёма явился для меня «включателем». Назойливый и неуёмный, «Обер» постоянно «дёргал» «рубильник провокаций», включал инфантильного юнца, типа, меня, в осознание, что есть другая реальность, более сложная, взрослая, чудовищная, несправедливая жизнь.
Для нашей «воспиталки» Анки «обер» Сёма оставался чужаком, кто всё делает «не так, как нужно», не «как правильно», «не как положено». Кушает «не так»: неопрятно, вытирает губы и сопливый нос рукавом пальто, свитера или рубашки. Спит «не так»: чаще всего одетым, в пальто на голой, панцирной сетке кровати. Курит, опять же. Что вообще недопустимо в научной школе! Тут я согласен: не допустимо.
В нашем классе некоторые мальчишки тоже покуривали. Тот же Валерка Колб. В восьмом и девятом классе он обходился, как мне помнится, без замечаний «воспиталки», «зажёвывал» «перегар» после курения живицей – сосновой смолой или курил, выходя из комнаты второго этажа… на подоконник со стороны улицы. Пацаны, ради «хохмы», иногда прикрывали за Колбом створку окна, запирали на шпингалет. Валерка невозмутимо докуривал сигаретку «на улице», терпеливо выжидал, когда «хохмачам» надоест издеваться. Драться не лез. Сам был из «приколистов». Прощал друзьям взаимные шутливые издевательства.
«Вредные привычки» детей, как я понимаю, зависели от воспитания и поведения родителей, в первую очередь. Во вторую… от той среды (весёлое название!) … четверга, пятницы обитания. Если в моей семье никто не курил, так и у меня не возникало желания даже попробовать затянуться. Хотя нет, возникало.
В седьмом классе дворовые пацаны хвастались, что бросили курить. И все, включая взрослых, считали их героями.
Подумал, может, и мне закурить, потом бросить и показаться самому себе героем? Но – нет. Занятия физкультурой в школе и гимнастикой в спортивном обществе «Динамо», а затем, из-за «скачка» в росте (за лето вымахал на 10 сантиметров!), – волейболом, не позволяли экспериментировать со здоровьем. «Дыхалки» могло не хватить для сдачи норм ГТО и БГТО, на «юношеские» и «взрослые» спортивные разряды.
Лично мне были совершенно непонятны многие претензии к «обер-лейтенанту» нашей надсмотрщицы – воспитателя Анки.
Сёма и ходил, оказывается, тоже «неправильно». Громко шаркал, к примеру, подошвами ботинок по полу, как старик, а надо ведь было «выше поднимать ноги». Может, «Обер» и был стариком, только в обличии мальчишки?
«Обер – лейтенант» как-то не выдержал «дурацких» нотаций «классной дамы» и воспитателя, при её окрике замер в нелепой позе «замороженного», затем «отморозился», молча, ушёл от неё спиной вперёд. Тогда ещё не была известной знаменитая «лунная походка» Майкла Джексона. Сёма убрался от «доставучей воспиталки» примерно таким же, но корявым, карикатурным образом.
Позже, когда издалека он замечал нашу «классную» в коридоре общежития, в школе или на улице, приостанавливался, замирал и уходил именно таким «фертом». «Задом-наперёд». Случалось эта клоунада не часто. Но случалась.
– Не, я так сам будто залипю, – пояснял он. – Включается обратка. Анка, блин, выталкивает меня из «Белой зёмы». А я не хочу выталкиваться. Мне здесь нравится. а
Наша «классная» воспринимала эти и другие выходки Сёмы, как издевательство и неуважение. Но «Обер» упорно «включал обратку». Анка не могла его докричаться, типа, «а ну, вернись сейчас же!», «вернись, я сказала!». Сёма сматывался от «воспиталки» куда угодно: на улице – пытался затеряться среди сосен, в общежитии у него было излюбленное место «отсидки» – туалет, и даже не в своем комнатном блоке, в любом, ближнем по ходу.
В подземном переходе от общежития к школе, спрятался «обер» однажды от Анки в складском помещении. И был случайно заперт на ключ «завхозом». Освободили Сёму из «заключения» уже после глубокого «отбоя». Дежурный воспитатель, на его счастье не Анка, совершал обход и услышал, в общем-то, не очень настойчивый стук в складскую дверь. С обратной стороны. Воспитатель долго разыскивал «по всей школе» ключ от склада. Когда открыл дверь, сообразительный Сёма, серьезный и деловой, вышел с ведром в руках и шваброй. Пояснил, что хотел помочь в «помойке» полов в подземном переходе, но его случайно заперли.
Прокатило. Воспитатель, а это был мужчина, похвалил «трудягу», помог Сёме наполнить ведро тёплой водой, «организовал» половую тряпку. Так что «обер-лейтенант» в «охотку», как он сам признался, до полуночи надраивал кафельный пол в «подземке».
На другой день Анка пообещала Сёме «влепить строгача», объявить «строгий» выговор за «часовое» опоздание к «отбою», отчитала «помойщика», когда тот заявился в общежитие, сонный и уставший.
В этом случае, её можно было понять. Время позднее, первый час ночи. А у неё семья, муж. Не помню, были у Анки дети или нет? Ребята подскажут.
Утром в книге «дежурств» выявилась запись «ночного воспитателя», где он просил ученику такого-то класса объявить благодарность за «трудовой энтузиазм». Нашу «классную» это поставило в тупик. Она обошлась молчаливым недоумением.
Школа-интернат была устроена для детей примечательно. Среди сосен, высоченных, как мачты старинных кораблей, с зелёными парусами игольчатых крон, были выстроены три здания из белого кирпича: два общежития с надземным, застеклённым переходом, и учебный корпус, куда можно было прибежать из общежития по подземному тоннелю за пять минут, и успеть к первому уроку.
Образно выражаясь, белый тепловоз ФМШ и два вагона «общаг» на три года увозили школьников в увлекательную страну Познаний.
У «технарей» ещё был свой, славный, «прицепной», замечательный, уютный вагончик – КЮТ.
«Столовку» университета, совсем рядом, метрах в тридцати от школы, фэмышатам отдадут в девятом классе. Пока же наш любимый, «общепитский» «грибок», примечательная конструкция, напоминающая стеклянную летающую тарелку на бетонной ножке, произрастал по улице Ильича рядом с ДК «Академия», в получасе ходьбы от интерната.
На другой день после знакомства Сёма вновь прилип ко мне. Похоже, почувствовал терпеливого, молчаливого собеседника, на голову которого можно сваливать любую несусветную чушь, лить словесные помои. Одноклассник же не знал, что перед ним будущий «подлый собиратель историй». А собирателям нужно иметь особое терпение, уметь выслушивать и даже записывать для памяти в тетрадочку необычные выражения и сравнения, типа, «пень с ушами», «дрын с зенками», «рыжий веник». Позже, возможно, разберёмся, кого Сёма конкретно имел в виду из «технарей» нашего класса.
Серьёзно и ответственно подходили к самостоятельной жизни
Генке А-ву кто-то из наших придумал прозвище «Крокодил». Почему Крокодил? В восьмом классе для меня оставалось загадкой, которую разгадывать не пришлось. Кличка за Генкой укрепилась. Но я обращался к однокласснику по имени.
И – Сёма? Ну, какой он обер-лейтенант?! В лучшем случае, ефрейторик, солдатик-юниор с одной жёлтой лычкой на единственном, уцелевшем, чёрном, картонном погоне (другой сорван «неприятелем»! ), участник военизированной игры «Зарница» в пионерлагере. Хотя вряд ли «беспризорник» Сёма играл в подобные патриотические игры в своем «замшелом» ПГТ при «железном» руднике.
«Обер» как-то откровенно признался, что он – ошибка. Не ошибка природы, просто – ошибка. Заявил весело, без обидняков, что в «ФМШуху» попал тоже по ошибке. Попросил не задавать умных вопросов, обойтись без приколов и шуточек.
Вопросов к однокласснику поначалу не было, ни умных, ни глупых. Удрать от приставучки Сёмы в тот день я не торопился. Если человеку хочется выговориться, значит, наболело, значит, замучило одиночество. Пусть высказывается, перетерплю. Это была вынужденная тактичность в постижении новой обстановки, знакомства с новыми товарищами.
Как выясняется много позже, все мы, в той или иной степени, – ошибки. Но мы-то хоть пытались исправлять ошибки в самих себе в течение остальной жизни.
Прошлись с Сёмой после уроков на обед до «грибка» – нашей столовки. Тогда-то он как раз и выдвинул свою теорию цветных миров.
Мы почти подружились… Почти, потому что «Обер» оставался независимой, отчуждённой личностью от наших общих занятий, игрищ и забав. Он был рядом, но как бы существовал обособленно, вне нашего дружного классного (!) сообщества. Я даже не помню, в какой секции КЮТа Сёма занимался. По-моему, радиотехники. Ребята уточнят.
Надеюсь, в следующем переиздании «Сёмы-фымышута» дотошный Юрик Ажичаков и Андрей Чигрин, по школьному прозвищу – Карлсон, поправят неточности и дополнят наши истории занимательного детства.
«Занимательного», потому что заниматься мы успевали не только уроками, но и в упоении трудились в мастерских нашего любимого и неповторимого КЮТа. Некоторые ещё успевали кувыркаться в спорткомплексе НГУ в секции борьбы самбо, играть в школьном спортзале в баскетбол, волейбол, футбол, бегать зимой на коньках по льду стадиона, по лесу на лыжах до самого Обского моря.
В девятом классе «технари» собрали вокально-инструментальный ансамбль (ВИА). Тогда не принято было называться «группой», тем более, «рок». Ансамбль… «песни и пляски», как шутили некоторые конкуренты по музыке, злопыхатели из «Самоваров», ещё одного школьного ВИА. На самом деле, ансамбль конкурентов назывался «Савояры».
В десятом классе появилась возможность красиво ухаживать за девчонками, соседками по этажу. В девятом случилась у меня невероятная влюбленность в худенькую девочку из другого класса. Но романтические истории с девчонками закрутятся в 9-ом и 10-ом классах. Пока речь о восьмом.
Обо всём по порядку. Вернёмся к «обер-лейтенанту».
Учился Сёма в средней своей школе «так себе, ниже грязи», как он говорил. На «два с половиной и четыре… тройки в год».
– Удушист, – пояснил он.
– Удовлетворист? – шутливо уточнил я. – Уд – это же тройка. Неуд – двойка.
– Тогда неудист, – импровизировал «обер-лейтенант». – Нет. Удак!
Развивать вариации «двоечника» с «натянутыми» тройками мы дольше не стали.
Угрюмому Сёме представлялось «апупенной» фантастикой, что он попал в такую «потрсную» «Белую зёму», в такую «замудрую школу», где можно стать «настоящинским» учёным, в такой классный, чистенький городочек, «засаженным» жёлтыми спичками сосен, как патронами в обойму, с белыми ульями домиков, я
– Общага с белым бельишком, – говорил он с мечтательным придыханием, будто сказка для него стала былью. – Теплота даж зимой. Сортир с умывалкой. Шик-блеск – тру-та-та!
Надо пояснить неловкое выражение «обер-лейтенанта» о городке «засаженным соснами, как патронами в обойму». Удивительно, строители Академ -городка настолько аккуратно соорудили, к примеру, наши «общаги» и школу в четыре этажа, поставили «впритык», вплотную к высоченным соснам. Казалось, здания аккуратно опустили сверху огромным вертолётом уже выстроенными, не затронув, не повредив ни одного дерева. При сильном желании, можно было из окна общежития запрыгнуть на ствол ближайшей сосны. Никто не пытался, но рассуждал о возможности.
Напомню, ещё один хулиганистый пацан – Валерка Колб, когда выходил из окна на подоконник покурить, ни раз говорил, что в случае, скажем, «общего шхера», пожара там, эвакуации или другой какой «катаклизмы», можно легко «сигануть» даже с четвёртого этажа на сосну. Эксперименты, к счастью, не проводились. Убился бы дурной тарзан к… В общем, покалечился бы точно. у


