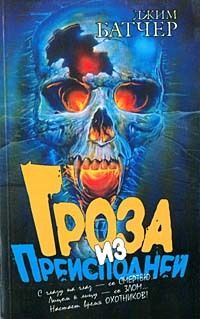Полная версия
Архивы Дрездена: История призрака. Холодные дни
– Ты убила их, – тихо произнес я. – Ты это имеешь в виду?
Она отвела взгляд.
– Когда имеешь дело с кем-то настолько сильным, – сказала она, помолчав немного, – тебе не остается выбора. Попробуй захватить их живьем – и у них будет достаточно времени, чтобы убить тебя.
Я поморщился от сочувствия к ней. Пусть она больше не работала в полиции, но сердце ее оставалось там же – там, где закон. Она верила в него, искренне верила в то, что закон призван служить людям Чикаго и защищать их. Когда она была копом, в ее обязанности всегда входило следить за тем, чтобы законы служили этой цели, и прилагала к этому все свои усилия.
Ей нравилось служить своему городу в условиях верховенства закона, а это означало, что свою работу должны исполнить судьи и присяжные, прежде чем за дело может взяться палач. Если Мёрфи отошла от этой веры, какой бы необходимой и практичной та ни казалась ей раньше, сколько бы жизней она ни помогла спасти…
Баттерс говорил, что она испытывает стресс. Теперь я понимал природу этого стресса: чувство вины. Он беспрестанно терзал ее, ранил по живому.
– Они все убийцы, – продолжала Мёрфи, хотя не думаю, что она обращалась ко мне. – Убийцы и похитители людей. И закон на них не распространяется. Кто-то должен что-то делать.
– Да, – кивнул я. – Кто-то всегда делает.
– Суть в том, что единственный способ справиться с такими проблемами – это ударить по ним всеми наличными силами, и ударить немедленно. Пока эти наводящие заклятия уроды не успели укорениться и искалечить людские умы так, чтобы те их защищали, или напасть на тебя или на дорогих тебе людей. – Она посмотрела на меня в упор. – Мне нужен адрес.
– Не нужен, – возразил я. – Я сам приведу к тебе этих детей. Стоит отнять их у Аристида, и он останется беспомощным, уязвимым. Тогда ты сможешь помочь Фитцу и его команде.
– Фитц и его команда, – ровным голосом произнесла Мёрфи, – убийцы.
– Но…
– Нет, Гарри. И не вешай мне на уши лапшу насчет того, что они не нарочно. Они открыли огонь из огнестрельного оружия в жилом квартале. В глазах правосудия, да и по самой элементарной логике попытки выставить это несчастным случаем по меньшей мере неубедительны. Они знали, что может случиться. Их побуждения при этом роли не играют.
– Я понимаю, – вздохнул я. – Но эти дети не испорченные. Просто напуганные. Страх заставил их сделать неправильный выбор.
– Твое описание подходит к большинству членов чикагских уличных банд, Гарри. Они вступают в банды не потому, что они испорченные дети. Они делают это потому, что боятся. Им хочется принадлежать к чему-то. Хочется защиты. – Она тряхнула головой. – То, что они все поначалу были хорошими детьми, ничего не значит. Жизнь меняет их. Они становятся совсем другими.
– Что ты намерена делать?
– Привести отряд в их убежище. Разобраться с заклинателем. Мы приложим все усилия, чтобы остальные не пострадали.
– Ты собираешься открыть огонь из огнестрельного оружия у них в доме. Может, ты и не хочешь, чтобы дети пострадали, но ты знаешь, что такое возможно. Если все закончится их телами на полу, твои благие намерения не будут играть никакой роли. Ты это мне хочешь сказать?
Глаза ее вдруг вспыхнули гневом.
– Тебя здесь не было последние полгода. Ты не знаешь, на что это все похоже. Ты…
Она крепко сжала губы. А потом посмотрела на меня в упор. В ожидании.
– Нет, – сказал я очень тихо.
Она несколько раз покачала головой:
– Настоящий Дрезден не колебался бы.
– У настоящего Дрездена не было бы шанса увидеть их. Поговорить с ними. Он просто ринулся бы в бой очертя голову.
Она резко захлопнула блокнот и встала:
– В таком случае повестка дня исчерпана. Обсуждать больше нечего.
И вышла, не говоря больше ни слова, ровным, решительным шагом.
Баттерс встал и взял со стола Боба маленький транзистор:
– Я, эм… я обычно иду с ней, когда она что-то затевает. Чтобы доработать детали. Извините.
– Конечно, – тихо сказал я. – Спасибо за помощь, Баттерс.
– Всегда пожалуйста, – кивнул он.
– И тебе тоже, Боб.
– De nada, – отозвался череп.
Баттерс поспешил к двери.
Я остался один.
Глава 19Несколько минут я стоял, ничего не делая. Даже не дышал.
Не делать ничего трудно. Стоит вам остаться без дел, и ваша голова начинает все обдумывать. В ней всплывают темные, безрадостные мысли. Вы начинаете думать о смысле вашей жизни. А если вы призрак, то начинаете думать о смысле вашей смерти.
Совесть и чувство вины медленно пожирали Мёрфи изнутри. Я знал ее давно. Знал, о чем она думает. Знал, что ей дорого. Знал, как больно ей приходится. Я не сомневался в правильности своих предположений.
Но я знал также, что эта женщина ни за что не убьет другого человека, пусть даже окончательно и бесповоротно съехавшего с катушек, если только это не будет абсолютно необходимо. Любому разумному человеку вообще нелегко убивать – но Мёрфи противостояла этому демону долго, очень долго. Ясное дело, моя смерть причинила ей боль – и, поверьте, мысль о том, что я никак не могу этого изменить, сильно расстраивала меня. Но почему совесть начала глодать ее именно сейчас? Для чего разыгрывать из себя дамочку, когда я всего-то попросил раздобыть немного информации у ее бывшего мужа? Ведь если женщине что-то нужно, ее не остановят даже кирпичные стены.
А еще я заметил, что, когда мы говорили о выстреле, которым меня убили, о возможном расположении стрелявшего, о круге подозреваемых, Мёрфи могла бы сообщить гораздо больше. Могла, но не сообщила.
Она ни разу, ни словом не упомянула Кинкейда.
Кинкейд – не совсем человек, наемник – работал на самую страшную девочку из всех, что обитают на нашей зеленой планете. Прожив несколько столетий, он стал уникальным бойцом. Каким-то образом ему удалось преодолеть негативные стороны функционирования человеческой нервной системы – по крайней мере, в том, что касалось стрельбы в совершенно неблагоприятных условиях.
И именно он сказал мне, что, если ему понадобится меня убить, он выстрелит с расстояния по меньшей мере в полмили из крупнокалиберной винтовки.
Мёрфи не хуже меня понимала, что мнение убийцы с многовековым стажем было бы неоценимо в расследовании. Я сам не стал этого предлагать, поскольку Мёрфи с ним вроде как встречалась некоторое время и до сих пор оставалась не совсем к нему равнодушна. Вот мне и показалось, что пусть лучше она сама поднимет этот вопрос.
Но она этого не сделала.
Ни разу не упомянула его имени.
Она вообще провела наше совещание слишком быстро и готова была поцапаться со мной по любому поводу. Весь этот спор насчет Фитца и его команды, похоже, являлся лишь дымовой завесой.
Оставалось только понять, ради кого все это разыгрывалось. Ради меня, чтобы потенциально безумный призрак не отправился мстить направо и налево? Или она делала это ради себя самой, поскольку отказывалась сопоставить свой образ Кинкейда с тем безликим снайпером, который меня убил?
Похоже, что так. То, что она понимала сердцем, заставляло ее разум лихорадочно искать менее болезненную правду.
Мои выводы основывались на знании человеческой природы вообще и личности Мёрфи в частности, а еще на интуиции, – в конце концов, я всю жизнь доверял своим инстинктам.
Мне казалось, они не ошибались и сейчас.
Я прокрутил в голове возможные варианты. Представил себе Мёрфи в первые дни после моего убийства – разбитую, раздираемую эмоциями. Мы так и не узнали, сможем ли мы с ней быть вместе. Несколько раз нам что-то мешало. Я понимал: когда пройдет достаточно времени, чтобы ее гнев утих, его место займет скорбь. Я представил ее спустя месяц: уволенную из полиции, с личной жизнью, пущенной под откос…
Слух о моей смерти наверняка разлетелся быстро – не только среди чародеев Белого Совета, но и среди оставшихся вампирских коллегий, среди членов Паранета и вообще всех, имеющих отношение к сверхъестественному миру.
Кинкейд, вероятно, узнал об этом спустя день или два. Стоило кому-либо написать обо мне хоть строчку в рапорте, Архив, сверхъестественный хранитель всех письменно запечатленных знаний, обитавший в теле девочки по имени Ива, узнал бы об этом. А я был, возможно, единственным в мире человеком, которого она считала своим другом. Сколько ей сейчас? Двенадцать? Тринадцать?
Весть о моей смерти, наверное, стала для Ивы ударом.
Кинкейд, должно быть, отправился к Мёрфи утешить ее в меру сил. Не с кружкой горячего шоколада и теплым пледом – нет, совсем по-другому. Скорее он принес пару бутылок виски и компакт-диск с какой-нибудь сексуальной музыкой.
«Особенно если он в это время находился в Чикаго», – нашептывала у меня в голове темная, вредная часть моего сознания.
Я представил, как Мёрфи ищет утешения там, где возможно, и нежно прощается с ним, когда он уходит, – а потом на протяжении нескольких следующих недель медленно сопоставляет факты и делает выводы. Все время повторяет себе, что она, возможно, ошибается. Что все не так, как кажется.
Досада. Боль. Отрицание. Черт, этого более чем достаточно, чтобы довести до исступления кого угодно. Привести в гнев, который она, должно быть, носила в себе как медленно растущую опухоль, давившую все тяжелее и тяжелее. Такая штука запросто может любого довести до смертоубийства, даже если в нем нет необходимости.
А эта смерть, в свою очередь, заставит испытывать еще больше вины, больше разочарования, что разбудит еще больше гнева, который подтолкнет к новому насилию, к новому чувству вины… получается настоящий замкнутый круг.
Мёрфи не хотела получать материалы съемок с камер наблюдения аэропорта и вокзалов, поскольку не хотела узнать, что мужчина, с которым она спала, убил одного из ее друзей. Подобравшись к осознанию этой вероятности, она отреагировала гневом и попытками оттолкнуть источники света, способные высветить то, чего она не желала видеть.
Возможно, она даже не осознавала этой борьбы, происходящей у нее в голове. Когда ты разбит горем, в голову так и лезет всякая лишенная логики чушь.
Работа детектива не всегда связана с логикой – особенно когда имеешь дело с людьми. Люди склонны совершать самые нелепые и нелогичные поступки по самым непостижимым причинам. У меня отсутствовали логические причины подозревать Кинкейда. Но эта гипотеза помогала собрать воедино кучу деталей мозаики. И если она верна, это объясняло многое.
Не более чем гипотеза. Пока. Но и этого хватало, чтобы мне захотелось нарыть больше улик там, где я в другом случае их не искал бы.
Только как? Как я мог начинать копать под Джареда Кинкейда, Адского Пса, ставшего Иве почти родным отцом, – делая это без помощи Мёрфи? Более того, мне пришлось бы делать это без ее ведома, а по отношению к другу такое выглядит не сказать чтобы красиво. Ох! Пожалуй, лучше заняться пока текущими неотложными проблемами.
Мне нужно было найти Морти, который для Мёрфи в списке актуальных вопросов занимал явно не первое место.
Мне нужно было помочь Фитцу и его бестолковым несовершеннолетним приятелям.
А более всего мне не хватало помощи кого-то, кому я мог бы доверять.
Я сделал глубокий вдох и кивнул.
А потом, пройдя сквозь наружную стену Общества светлого будущего, отправился на поиски своей ученицы. Пока ночь не стала еще темнее.
Глава 20Я всегда считал себя одиночкой.
Не таким одиночкой, как Байрон, – несчастным и романтичным. А скорее таким, которого не слишком огорчит перспектива провести выходной день, ни с кем не общаясь, а валяясь на диване с хорошей книгой. Не то чтобы я не любил людей или что-то в этом роде. Мне нравится общение, нравится проводить время с друзьями. Но есть ведь и другая сторона. Мне всегда казалось, что я вполне доволен жизнью и без них.
Я шагал по улицам города с населением почти в три миллиона человек, и меня впервые ничто не связывало с кем-либо из них. Я не мог с ними разговаривать. Я не мог прикасаться к ним. Я не мог ввязаться в спор из-за места на стоянке или сделать неприличный жест в сторону неосторожного водителя, не уступившему мне дорогу на перекрестке. Я не мог ничего купить в каком-нибудь магазинчике, вежливо поболтав при этом с кассиром. Не мог взять в руки газету. Не мог посоветовать хорошую книгу кому-то, роющемуся на книжном развале.
Три миллиона душ жили своей жизнью, а я был один.
Теперь я понимал капитана Мёрфи с его теневым Чикаго. Настоящий город уже начинал казаться мне своей призрачной версией. Каким этот город станет для меня со временем? Темным? Пустым? Бессмысленным и слегка угрожающим? А ведь я провел в нем чуть больше дня.
Каким стану я сам, пробыв здесь год? Десять лет? Сто?
Я начинал понимать, почему так много призраков кажутся парой соломинок картофеля фри из «Хэппи мил».
А еще я начинал думать, что сэр Стюарт и Морти, возможно, не так уж и ошибались на мой счет. Что, если я и впрямь сбрендивший дух, каким они меня считали? Не настоящий Гарри Дрезден, а всего лишь его мертвый образ, занимающийся тем, чем всегда занимаются психи: попытками помочь друзьям и прищучить нехорошего парня.
Я не ощущал себя сбрендившим духом, но, если подумать, и не должен был. С чего бы? Сумасшедшие редко понимают, что они сошли с ума. Наверное, безумным им представляется весь остальной мир. Видит бог, мне он всегда казался слегка безумным. Или не слегка. Каким же способом я могу проверить, такой ли я, каким меня считают сэр Стюарт и Морти, или все-таки нет?
Более того, Морти, чтоб его, всегда считался экспертом по призракам. Я и сам не совсем уж профан в этой области, но Морти – настоящий профессионал. При обычных обстоятельствах по техническим вопросам, касающимся теней и духов, я всегда высоко ценил его мнение – чуть выше, чем свое собственное. Морти никогда не отличался образцовыми силой и отвагой, зато был умен и достаточно стоек – иначе вряд ли выжил бы после стольких лет профессиональной деятельности, оказавшейся на поверку куда опаснее, чем мне казалось.
Мать-перемать! Все шло к тому, что, пока я спасал Чикаго от тварей, о существовании которых никто не знал, Морти спасал меня от тварей, о наличии которых я сам не подозревал. Забавный мир, правда?
Я остановился как вкопанный и тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть попавшую в глаза воду.
– Дрезден, отложил бы ты свой личный экзистенциальный кризис на потом. Нехорошие парни явно усердно трудятся и тебя ждать не будут. Давай шевели задницей.
Что ж, хороший совет.
Один вопрос: как?
В нормальной ситуации я бы выследил Молли с помощью нехитрого тауматургического заклятия, которым пользовался тысячу раз. После ее незапланированного путешествия в Арктис-Тор, что в Феерии, я всегда держал под рукой более или менее свежесрезанную прядь ее волос – так, на всякий случай. А в последний год я обнаружил, что могу отслеживать энергетические поля, которые она использовала в первых своих самостоятельных магических опытах. Подобно волосам, они отличались неповторимым, присущим только ей характером. Как автограф. Я не сомневался, что при необходимости отыщу ее без особого труда. Черт, если уж на то пошло, мы с ней провели столько времени вместе, что она стала для меня почти что членом семьи. Как правило, я мог чисто интуитивно определить ее присутствие – разумеется, кроме тех случаев, когда она сознательно от меня пряталась.
Но все это, само собой, происходило, пока я обладал магией. Теперь же она исчезла.
Что, если подумать, тоже говорило в пользу теории Стюарта и Морти и против моей. Невозможно отнять магию у человека. Магия – если она, конечно, у кого-то имеется – становится неотъемлемой частью личности. От нее можно отказаться, если как следует постараться, но избавиться от нее совсем нельзя. Если мой призрак действительно являлся мной, ему полагалось бы обладать магической силой – как, скажем, призраку этого мерзавца Леонида Кравоса.
Верно?
А может, и нет. Может, я делал слишком много допущений, даже не подвергая их сомнению. Например, я исходил из того, что материя осязаема, тогда как для призрака это не так. Что я могу замерзнуть, хотя это тоже не так. Что силы гравитации действуют и на меня… и так далее.
Возможно, точно так же я заблуждался и насчет магии. И верно, ведь удалось же мне выстроить вполне крепкое защитное поле во время первого нападения на дом Морти, когда я делил тело с эктомантом. Уже одно это могло доказать, что мои способности все еще при мне, а не пропали бесследно.
Оставалось только понять, как мне получить к ним доступ.
Память – это сила.
Я порылся в кармане плаща и достал тяжелый пистолет, который дал мне сэр Стюарт. Я не специалист по оружию, снаряжаемому черным порохом, но даже моих познаний хватило, чтобы проверить, не осталось ли пороха на полке. Только после этого я перевернул пистолет дулом вниз и как следует встряхнул. Мне пришлось несколько раз с силой хлопнуть по стволу рукой, чтобы вытряхнуть на ладонь круглую пулю, пыжи и порох.
Круглая пуля сияла, как только что отлитая. При более близком рассмотрении тонкие завитки на поверхности металла сложились в бесхитростную пасторальную сцену: дом в колониальном стиле, стоящий на небольшом зеленом лугу в окружении яблонь, большой ухоженный огород, пастбище, усеянное белыми овцами. Пока я вглядывался в изображение, оно ожило. Ветер шевелил зелень на грядках. На фоне темно-зеленой листвы светлели зреющие яблоки. Ягнята резвились, носясь вокруг взрослых овец, – просто так, от избытка энергии. Дверь дома отворилась, и высокая стройная женщина с волосами темнее воронова крыла вышла на крыльцо, ведя за собой стайку ребятишек и явно раздавая им указания.
При виде этой картины на меня накатила волна эмоций. В первую очередь гордость – не за то, что у меня такой красивый дом, а за то, что дом был красив, потому что принадлежал мне, потому что я выстроил его таким. С этим смешивались глубокое, как океан, чувство любви к женщине и ее детям, необузданное счастье от возможности их видеть – и приятное, острое желание, направленное на ту, которую я совсем скоро смогу обнять…
Я вдруг почувствовал, что вторгся в чужие, глубоко личные воспоминания. Я закрыл глаза и отвернулся.
Воспоминания, сообразил я. Это все из воспоминаний сэра Стюарта. Именно их он использовал против привидений при нашей первой встрече. Оружием для него стали не воспоминания о войне или разрушении, а те, что он ставил дороже всего, – те, за которые он готов был сражаться.
Вот почему он использовал в бою тот топор, этот пистолет. Никто не мешал ему воссоздать намного более совершенное оружие, но в своих воспоминаниях он пользовался именно таким, поэтому оно и стало источником его силы, воплощением его стремления изменить окружающее.
Они олицетворяли самого сэра Стюарта. В них заключалась его магия.
Воспоминания равнялись силе.
Некоторое время я еще сомневался, что все так просто. Однако изрядная часть магии и впрямь сравнительно проста – только не путайте простоту с легкостью.
Выяснить я это мог только одним способом.
Первое в моей жизни заклятие, которое сотворилось у меня на тех давних школьных соревнованиях, вышло случайно, по совпадению. Его и магией-то можно назвать лишь с натяжкой. Первое заклятие, которое я сложил сознательно, целенаправленно, вызвало к жизни огонь.
Этому меня научил Джастин Дю Морне.
Я вспомнил тот вечер.
– Я не понимаю, – жаловался я, растирая виски, в которых пульсировала боль. – Если не получилось в прошлые пятьдесят раз, с чего бы ему получиться сейчас?
– Сорок шесть раз, – поправил меня Джастин, как всегда спокойно.
Он говорил с легким акцентом, но я никак не мог уловить, каким именно. По телевизору я такого не слышал. У самого Джастина телевизора не было. Мне приходилось каждый пятничный вечер удирать в магазин электроники, располагавшийся в торговом центре, чтобы посмотреть очередную серию «Рыцаря дорог», – я очень боялся упустить сюжетную нить.
– Гарри, – произнес Джастин.
– Ладно, – вздохнул я. – У меня голова болит.
– Это вполне естественно. Ты прокладываешь в своем сознании новые тропы. Будь добр, еще раз.
– А могу я прокладывать тропы где-нибудь в другом месте?
Джастин посмотрел на меня из-за своего рабочего стола.
Мы сидели у него в кабинете, как он называл одну из гостевых спален в небольшом доме примерно в двадцати милях от Де-Мойна. Как почти всегда, одежду его составляли черные брюки и серая рубашка. Бороду свою он подстригал довольно коротко, безукоризненно ровно. Руки его с очень длинными, изящными пальцами могли сжиматься в твердые как камень кулаки. Ростом он был выше меня – как и большинство взрослых в то время – и никогда не обзывал меня обидными словами, даже когда приходил в ярость. Этим он отличался от остальных приемных родителей, у которых мне довелось пожить.
Если я доводил Джастина до гнева, он вместо «будь добр» переходил к кулакам. Он никогда не бил меня с криком, никогда не тряс за ворот или за волосы, как поступали другие мои опекуны. Когда он меня бил, это каждый раз случалось молниеносно и очень точно, а затем все прекращалось. Как тогда, когда Брюс Ли на экране бьет врага. Только Джастин никогда не издавал при этом дурацких воплей.
Я отвернулся от Джастина, низко опустил голову, а потом посмотрел на потухший камин. Я сидел перед ним, скрестив ноги. В камине лежали шалашиком дрова и хворост. Оттуда исходил легкий запах дыма; подложенная под хворост мятая газета чуть потемнела в одном углу, но загораться упрямо не желала.
Краем глаза я видел, что Джастин снова углубился в свою книгу.
– Еще раз, будь добр.
Я вздохнул, закрыл глаза и попробовал сосредоточиться. Начинать надо с дыхания – оно должно быть ровным, размеренным. Потом, расслабившись, надо накапливать энергию. Джастин учил меня представлять в уме светящийся шар на уровне солнечного сплетения, разгорающийся все ярче и ярче, но это все ерунда. Вот когда это делал Серебряный Самурай, энергия сгущалась у него вокруг рук и глаз. Зеленый Фонарь накапливает ее в кольце. У Стального Кулака светятся кулаки – вот круто! Кажется, у Железного Человека что-то светится в груди, но он вроде как один такой, и у него все равно нет сверхсилы.
Я представил, как энергия накапливается у меня вокруг правой руки. Пусть будет там.
Я представил, как она разгорается ярче и ярче, как руку мою окутывает алая аура – словно у Стального Кулака. Я ощутил, как энергия покалывает кожу невидимыми булавками, заставляя волоски на руке встать дыбом. И когда я почувствовал, что готов, я подался вперед, сунул руку в камин и произнес как можно четче:
– Sejet!
И, говоря это, щелкнул кремнем зажигалки «Бик», которую прятал в правой руке. Огонек немедленно воспламенил газету.
– Погаси, – произнес Джастин почти над самым моим ухом.
Я дернулся и от изумления уронил зажигалку. Сердце заколотилось с частотой миллиард ударов в минуту.
Его пальцы сжались в кулак.
– Я не люблю повторять.
Я сглотнул, полез рукой в камин и вытащил газету из-под дров. Я немного обжегся, но не так сильно, чтобы плакать или что-то в этом роде. С горящими от стыда щеками я потушил огонь руками.
– Дай мне зажигалку, – все тем же спокойным тоном произнес Джастин.
Я прикусил губу, но послушался.
Он взял зажигалку и несколько раз подбросил на ладони. На губах его играла легкая улыбка.
– Гарри, полагаю, такая изобретательность сослужит тебе хорошую службу, когда ты вырастешь. – Улыбка исчезла. – Но ты пока не вырос, мальчик мой. Ты ученик. Такие штуки сейчас не пройдут. Никак.
Он сжал кулак.
– Sejet! – прошипел он.
Рука его взорвалась, превратившись в шар ало-голубого пламени, по сравнению с которым энергия Стального Кулака показалась бы бледной подделкой. Я поперхнулся, уставившись на это. Сердце забилось даже еще быстрее.
Джастин повертел рукой в воздухе, давая мне хорошенько убедиться, что это не иллюзия, – вся рука по локоть окуталась огнем.
Но не обгорала.
Джастин поднес руку к самому моему лицу – так близко, что жар едва не обжигал мне нос, но сам не морщился, и кожа его оставалась нетронутой.
– Если ты изберешь этот путь, рано или поздно у тебя получится, – спокойно произнес он. – Умение владеть стихиями. И, что более важно, умение владеть собой.
– Э-э-э… – подал я голос. – Что?
– Люди по природе своей слабы, парень, – продолжал он все тем же ровным голосом. – Эта слабость проявляется множеством способов. Например, сейчас ты хочешь закончить урок и убежать на улицу. Даже зная, что полученные знания могут оказаться жизненно важными. И все равно тебе хочется сначала играть и только потом учиться.
Он вдруг разжал ладонь и уронил зажигалку мне на колени.
Я отпрянул, когда она коснулась моей ноги, и вскрикнул от неожиданности. Но красная пластмассовая зажигалка просто лежала на полу; огонь ее не повредил. Я осторожно коснулся ее кончиком пальца – она ни капельки не нагрелась.