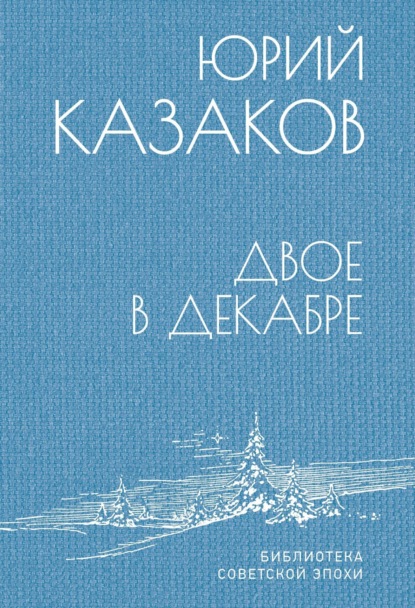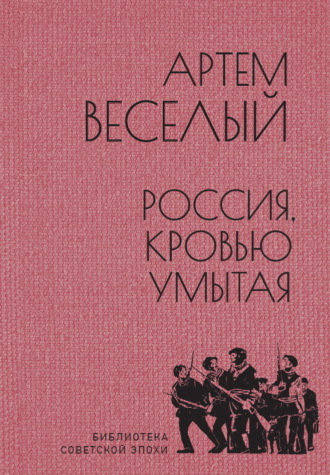
Полная версия
Россия, кровью умытая
Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:
– Не лапай, не купишь. Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли любишь, выбрось затеи из головы, засылай сватов. – В темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе, поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала: – Все твое будет.
– Ведьма!
Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала.
Иван брел ко двору.
Дома его встречал отец:
– Где шатался, непутевая головушка?
– Собак гонял.
– Не наводи на грех. Пьешь?
– Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело…
Старик оглаживал бороду и вздыхал:
– Женить тебя, Ванька, надо.
– Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.
– Золотое твое слово, сынок… А чего ты, я приметил, беса тешишь – лба не крестишь? В церковь ни разу не сходил?
Иван молчал.
– У-у, супостат… И как тебя земля носит? В Библии, в Книге Царств, о таком олухе, как ты, сказано…
– Что мне Библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.
– Язык тебе вырвать с корнем за такие слова… Погоди, Ванька, Господь-Батюшка тебя когда-нибудь клюнет за непочитание родителя.
– Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться?.. Как первый раз сходил я в атаку, так и отпал от веры. Первая атака… И сейчас кровь в глазах стоит! Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.
– Как же вы, молодые, хотите, чтобы вам верили, когда сами ни во что не верите? И мы в походах бывали, да страху Божьего не теряли… Всему верить нехорошо, а не верить ничему еще хуже: вера, сынок, неоценимое сокровище.
На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему несмешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.
Однажды Шалим привез на базар убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.
Они отправились в шинок.
– Рассказывай, кунак, как живешь?
– Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Коровка сдох, матера сдох. Сакля старий, дождь мимо криши тикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тюх-тюх. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругаит: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».
Ивана корежило от смеха.
Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышало молодой отвагой, движенья были остры, взгляд быстр и тверд. В длиннополой фронтовой шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шепот, мешая русскую речь с родными словами:
– В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев – будем кишки резить! Янасына воллаги… На речка Шебша живет кабардинский князь богатий-богатий – будем жилы дергать! Биллаги, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся!
Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных глазах… Слушал и не слушал Шалима, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескотне выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору… Как сквозь сон дорогой виделись ему степные просторы, взблески выстрелов, сверканье кинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой… Он схватил руку Шалима:
– Ахирят!
– Ходым?
– Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука – скулы ломит. Надо уходить.
Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку, с песней.
Новые песни принесли с собой фронтовики. Измученные и обовшивевшие, они расползались по станицам и хуторам, и чуть ли не каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.
Вернулся домой – без руки – Игнат Горленко. Вернулся убежавший из австрийского плена казак Васянин. Вернулся рыжий Бобырь. Вернулся – на костылях – Савка Курок. Вернулись братья Звенигородцевы. Приехал из Финляндии гвардеец Серега Остроухов. Приполз с отбитым задом старый пластун Прохор Сухобрус. Вернулся с прядями седых волос в чубе тот самый Григорий Шмарога, о котором жена уже другой год служила панихиды. Вернулся до пупа увешанный знаками отличия ветеран Лазурко. Вернулся дослужившийся до чина штабс-капитана агроном Куксевич. Вернулся с Турецкого фронта Яков Блинов. И другие казаки и солдаты возвращались.
Вернулся домой и Максим Кужель.
Марфа – босая, с подоткнутым подолом, полы мыла – выбежала во двор и бросилась ему на шею. Сама плачет, сама смеется.
Максим целовал ее и не мог нацеловаться.
– Рада?
– Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.
Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая свалянные волосы, все ахала:
– Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки… А худющий-то какой стал, мослы торчат, хоть хомуты на тебя вешай.
– Злое зло меня иссосало.
В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.
– Садись, Максимушка, поди, настоялся на службе-то царской.
Дверь скрипела на петлях – заходили сродники и так просто знакомые, расспрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов кожухов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки:
– С радостью тебя, Марфинька.
И не одна украдкой смахивала слезу.
– Моего-то там не видал? – спрашивали служивого.
– Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, поломалась. Фронт рухнул.
В чистой, с расстегнутым воротом рубахе, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял – кто за что, с кем и как.
Марфа с него глаз не спускала.
– В станице власть ревкома или власть казачьего правления? – спросил Максим.
– А не знаю, – улыбнулась Марфа, – говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.
– Эх ты, голова с гущей, – засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.
– У нас по-старому атаман атаманит, – сказал кум Микола. – В правлении у них до сей поры портрет государя висит.
– Чего же народ глядит?
– Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого…
– Воскресу им не будет…
– Бог не без милости, – согласился кум Микола и оглянулся на станичников. – Я так смекаю, мужики, ежели оно разобраться пристально, власть – она нам ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?
– Не робей, кум, не придется, – строго сказал Максим. – Али они сыны земли, а мы пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?
– Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.
– У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус Христос, не наспиртованы, а теперь, испытав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, ничего не боимся. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.
Наконец гости провалились.
Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристоном выдохнула:
– Заждалась я тебя…
– Ы-ы, у меня у самого сердце, как золой, переело. – Он лепил в ее сухие, истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.
Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.
…Максим пересыпал в руке ее разметанные густые волосы и выспрашивал о житье-бытье.
– Жила, слезами сыта была… В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет – ногу на борону сбрушила, дитё помирает. Кругом одна. Подавилась горем. От заботы молоко в грудях прогорькло, может, оттого и кончился Петенька.
– Не тужи, наживем другого.
– Легко сказать: другого. – Она заплакала. – Такой поползень был шустрый да смышленый. Везде он лез, все хватал, цапал…
На Максима забыть нашла, а над ухом все гудел и гудел ровный женин голос:
– Такие страхи пошли после извержения царя… Голову от дум разломило. Сперва все судачили – вот Керенский продал немцам за сорок пудов золота всю Кубань вместе с жителями; потом слышим – вот придут турки и начнут всех в свою веру переворачивать. На Крещенье вернулся из города лавочник Мироха и на собрании объясняет всему обществу: «Вот наступает из Ростова на нашу станицу красное войско, прозвищем большевики. Все хвостатые, все рогатые, все с копытами. Пиками колют старых и малых, а из баб мыло делают». Такой поднялся вой, такое смятенье… С плачем, с криком кинулись мы, бабы, в церковь, подхватили иконы, подняли хоругвь. Батюшка с крестом три раза обошел вокруг станицы, все дороги и тропы святой водой окропил, и, слава Царице Небесной, пронесло большевиков стороной.
Сытый Максим пробурчал сквозь сон:
– Дуреха ты нечесаная.
– Чего я знаю? Темная я, как бутылка. Куда люди, туда и я.
– Такие брехи на страх простому народу разводят фабриканты, банкиры, генералы и все приспешники престола Николая, которые затаили в себе дух старого режима.
– Хай они все передохнут. Лошадь у нас есть, корова меж молок ходит, как-нибудь перебьемся, а там, глядишь, землицы нарежут, посеем посеву и заживем сполагоря…
В переднем углу теплилась лампадка зеленого хрусталя. Смутные тени лежали на темных ликах угодников. В покосившиеся окна заглядывало седое зимнее утро. За стеной промычала корова: Максиму показалось, что заиграл горнист, он вскочил, огляделся и снова подвалился под жаркий бок Марфы… Счастливый, уснул.
Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:
Большевики берут верх по всей России.
На Дону война. На Украине война.
В Новороссийске – советская власть.
По Ставрополью народом поставлена советская власть.
Казаки за народ. Казаки против народа.
Под станицей Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.
В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.
Ростов взят красными.
В станице Крымской на съезде представителей революционных станиц выбран кубанский областной ревком.
Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до Благовещеньего дня прихватывали заморозки, перепадал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.
Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузнице день и ночь кипмя кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.
У кузниц, и на базаре, и на мельнице, и в церковной ограде – всюду, где сходились люди, – неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.
Фронтовики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили – какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от горцев привычке строгали ножами палочки да, посматривая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, облаял их последними словами и вытолкал в шею – не вашего, мол, тут ума дело.
– Я так думаю, надо самый зуб выдернуть – арестовать атамана! – говорил Максим, смело оглядывая собравшихся.
– Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана – казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие…
– Дурак, – осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. – Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его не хитро, а кого поставим хозяином станицы?
– Вот Емельку, – смеялся подъесаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. – За такой головой жить – не тужить.
Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:
– Брысь под лавку.
– Он и свинье замесить не умеет.
– Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял… Послушаешь – уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.
– И Христос плотником был, – вставил благообразный мужик Потапов, вожак секты евангелистов.
– Быть того не могёт, – отмахнулся Сотниченко. – Какой там плотник? Может статься, был он подрядчиком или кем… Но чтоб плотником – руби голову, не поверю.
Хохот пошел такой, будто поленница дров развалилась.
Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:
– Я – природный казак. Два Георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того вовек не будет.
Взяло Максима за сердце, опрокинулся на подъесаула:
– Во-во, братику, генеральская палка еще не дюже вам прискучила… Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах – и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-собором будем за делами смотреть. Выборный комиссар, будь хоть черт, он весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать – по шапке его, выбирай другого…
– Господина Григорова просить будем, говорок.
– Он и говорок, да смирный, а дело… – Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел ему в глаза, – дело к войне, нам смирных не надо.
Григоров порывисто вскакивал и говорил-говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним, как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики… Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенсне. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.
Когда наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрительный шепот:
– Башка…
– Это действительно… Говорит, как по книжке читает.
– Господи, твоя воля, что-то с нами будет? – Мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, поросшую золотистой шерстью грудь, подмышки и, редко расставляя слова, хрипел: – По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.
Максим на него:
– Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами якшаться! Раздергивать их на все концы, и никакая гайка.
– Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да – не балуй! – хвост короток.
– Куда мне, я малограмотный… Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересует меня, что у нас получится… Ночей не сплю, думаю.
Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:
– Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу… А тут – адов смрад, хула, вертеп разбойников… Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас… Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли…
Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствующие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?
Максим долбил свое:
– Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю…
– Да, время не ждет, пора бы и делить.
– А чего ее делить? – удивился рыжий Бобырь. – Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.
– Грех между нами будет.
– Старость придет, замолим.
– Умно сказал: «Свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ немало – три сына, племяш, дед, зять да сам большой… Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.
– А ты чужое не считай, мозги свихнешь… – сказал Бобырь. – Гони аренду по триста целкашей за десятину и вваривай, паши, насколько сила взгребет.
– Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.
– Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь. Кому надо, придут, да еще и в ножки поклонятся.
– Ой, Алексей Миронович, не просчитайся.
– И чего ты, Игнат, к нему присватываешься? – вступил в разговор инвалид Савка Курок. – Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.
– Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим, как-нибудь и сами справимся.
– Разувайся… Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой порядок не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанами, братства. Вся сила в нас: что захотим, то и сделаем.
– Погавкай, собака хромая.
– Это я – собака?
– Нет, не ты, а твоя милость.
Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:
– Я ему голову отвинчу…
– Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят…
– Провались она в преисподню, эта самая война… Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение – жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.
– Да, почудили на свой пай, – сказал гвардеец Серега Остроухов. – Не знаю – как кого, а меня ныне на войну и арканом не затянешь. Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.
– Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.
– Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.
– Горюшко-головушка.
– До стены дошли, – говорит Максим, – стену ломать надо. С кого начинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?
Мысль рождалась туго.
Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.
В праздничный красный день после обедни конные мыкались по станице и шумели под окнами:
– На майдан! Ходи, старики! Ходи, молодые!
Из окна высовывалась голова хозяина:
– Што такое?
– Приехал…
– Кого там принесло?
– Его высокоблагородие полковник Бантыш, член Кубанской рады, изволили прибыть. На майдан сыпь наметом.
Хозяин, не допив чая и отодвинув недоеденный кусок пирога, выскакивал из-за стола и командовал:
– Баба, подавай полковую форму.
И скоро, приодевшись по-праздничному и нацепив все боевые отличия, казаки уже поспешали к станичному правлению. Улицей и переулками торопливо шагали старики и солдаты-фронтовики. Сломя голову мчались ребятишки. Бежали не пропускавшие ни одного собрания солдатки. Ковылял, волоча перебитую ногу, инвалид Савка Курок и во всю рожу орал:
– Какое там собрание? Все равно будет по-нашему. Вся сила в солдате! Казаки против народа не вытерпят.
Площадь от краю до краю затоплена станичниками. Там и сям заядлые спорщики уже вступали в единоборство. И даже робким, что всегда на народе молчали, и тем не молчалось.
Заика-пекарь Гололобов, подергивая контуженым плечом, шнырял по толпе и скороговоркой сыпал:
– Шапку к-к-казачью носить не м-м-моги. С возом едешь, с-с-сворачивай. Аренду, з-за план гони, за па-пашню гони, за попас к-к-козы гони. Пожарную к-к-команду содержи, дороги, мосты б-б-б-б-блюди. В церкви стой у п-п-п-порога. Суд к-к-казачий, правление к-к-казачье, училище к-к-казачье. Тьфу, провались в т-т-т-т-т…
– Тартарары, – подсказал учитель Григоров, и все рассмеялись.
– С-с-сижу вчера у ворот, по-по-подходят Нестеренко и Мишка К-к-козел. «Купи, – говорят, – бутылку самогонки, а то з-з-з-зарежем». И ко мне с кинжалами. Ну, к-к-купил. П-п-провались в тар-тарары такая жизнь.
– Всякая кокарда с двуглавым орлом будет над тобой измываться… Взял бы грязное метло…
– О-б-б-обидно.
– Не дают нам вверх глядеть.
– Страдаешь за то, что живешь.
В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.
Сдержанные голоса и шепот:
– Вот тож большевики, сукины дети, каждым словом по буржуям и генералам бьют.
– Раз-раз – и в дамки.
– Шпиёны…
– То, дядька, брехня.
– Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу… Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет… Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?
– Тише, Егор, не мешай слушать.
На плечо Максима упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:
– Стой, солдат.
Максим обернулся и стряхнул с плеча руку:
– Стою, хоть дой.
– Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?
– А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?
– Га-га-га, – загремели многие глотки.
– Не пяль хайло и грубить мне не моги. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.
– Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом – требовать.
Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков:
– Чего вы, едрёна-зелёна, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке…
– Не круто ли, дед, солишь?
Шакунов откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:
– Послушайте, господа станишники, меня, старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То – голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, проиграют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра бес знат где. У нас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станишники, пустим большевиков на дворы, в хаты да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»
– Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь, – перебил его седоусый вахмистр Луговый. – «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана…» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитряешься всех на свой салтык мерить? Я – казак, ты – казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали. – Грязной тряпицей он отер слезящиеся глаза и всхлипнул. – У тебя посеву четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне шестьдесят пять годиков стукнуло, просятся старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну… Из-под ногтей у меня пшеница растет. – Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула. – Это ты можешь понять?
– Тут и понимать нечего… Ты, Луговый, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли мы пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.