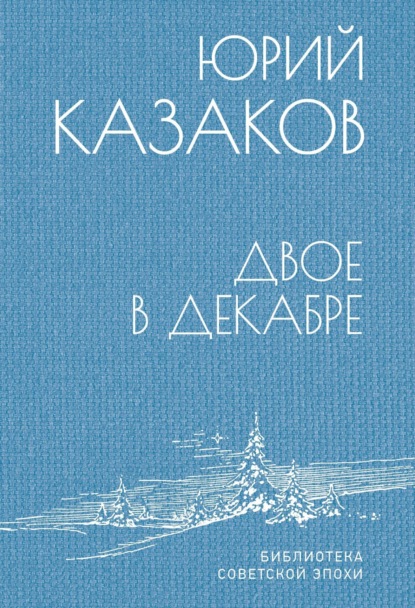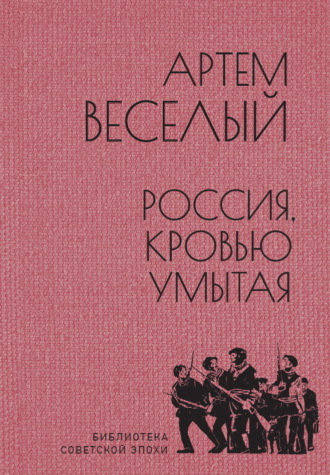
Полная версия
Россия, кровью умытая
На базаре было весело, как в балагане.
Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угреве сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливцы громят винные склады.
Через толпу пробирался бородатый красногвардеец – винтовка принята на ремень, на штык насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки остановили и окружили бородача.
– Купи, дядя, офицера?
– Какого офицера?
– Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и содержим в своем эшелоне, под охраной.
– Зачем он мне?
– Расстреляешь.
– А вы – сами?
– Он перед нами ни в чем не виноват.
Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыка и крендели, и сало, другой – вынул затвор из винтовки.
– Так не купишь офицера?
– Нет… Мы их и некупленных подушим, наших рук не минуют.
– Ну, прощай… А затвор-то у тебя где? Пропил?
Тот схватился – нету затвора.
– Отдайте, ребята…
Посмеявшись над бородачом, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.
На расправу базарного суда приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика. На оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась. Покричали-покричали и решили:
– Петь и плясать ему среди базара до темной ночи.
А один весельчак добавил:
– Ночью иди опять воруй, только не попадайся.
Блеснули теплые глаза мальчишечьи, закипели зубы в крике:
В арсенальном большом замкеДва солдатика сидят…Оба молоды, красивы,Про свободу говорят…Откуда-то опять пронесли и провели под руки раненых. Голодный и разбитый в мыслях Максим сорвал с урны сургучную печать и на все солдатские голоса выменял у бабы коврижку ржаного хлеба. Присев в сторонке, он разломил хлеб – одну краюху сунул в карман, другую принялся есть над горсточкой, не теряя ни крошки.
Погром на базаре начался с пустяков.
– Почем селедка?
– Четвертак.
– Заверни парочку для аппетиту.
– Изволь.
Завернутые в листок солдатского голоса селедки нырнули в шинельный рукав.
– Служивый, а деньги?
– Деньги?.. Да ты, тетка, ошалела?.. Уплочены деньги, али другие хочешь согнуть?
Торговка солдата за жабры:
– Подавай денежки, разбойник!
– Это я-то разбойник? – обиделся солдат.
Развернулся
цоп бабу по уху.
Покатилась баба в грязь и завизжала на всю губернию, а из-за пазухи у нее на грех и вывались два каравая хлеба.
Скрипнул зуб, рявкнула глотка солдатская:
– Ах ты, нация-спекуляция… Эдак народ мучится, а у нее за пазухой целый кооператив.
Хлеб разорвали и поглотали в мгновение ока.
Под ударами прикладов загремела первая разбиваемая лавка, а потом – пошло.
Штык к любому замку подходил.
Все базарные лавки в два счета были развалены и товары раскуплены – колбаса, конфеты, табачок, фрукты, – помалу досталось, а кровушки за три года пролили эва сколько, горького хлебнули досыта: конфеткой тут не заешь… Помитинговали-помитинговали и шайками потекли в город.
– Должон быть хлеб.
– Должон… Деться-то ему некуда, не вихрем подняло, в самом деле?
– Это они умно придумали, поморить солдат голодом…
– Хлеба много, тут на вокзале один старичок сказывал… Весь хлеб, слышь, большевики немцам запродали… Хлебом все подвалы забиты.
– Врут, не спрячут, солдат найдет.
– Ох, ребята, бей, да оглядывайся…
В городе голодные разгромили несколько пекарен, тем все и окончилось.
В вокзале митинг.
С речами выступали и сторонники разных партий, и так просто, любители. Кто хотел слушать, тот слушал. А кто пришел под крышу погреться или выспаться – они сидели и лежали на мешках и мирно беседовали. Меж ними шнырял мальчишка и, как фокусник мячами, играл словами:
– Эх, вот махорка корешки, прочищает кишки, вострит зрение, дает душе ободрение, разгоняет в костях ломоту, потягивает на люботу, кровь разбивает, на любовь позывает, давай налетай – двугривенный чашка…
По буфетной стойке бегал, потряхивая длинными волосами и размахивая руками, оратор:
– Товарищи и граждане! Десять тысяч солдат Турецкого фронта избрали меня на почетный пост члена армейского комитета… Товарищи и граждане! Преступный и позорный Брестский мир толкает свободную Родину в пучину гибели. Россия – это пароход, потерпевший в море крушение. Мы должны спасти гибнущую страну и самих себя. Довольно розни и вражды. Большевики хотят стравить вас с такими же русскими, как и вы сами. Позор и еще раз позор! Народу нужна не война, а образование и разумные социальные реформы. Товарищи и граждане…
Солдаты торопливо, ровно на подряд, грызли семечки, угрюмыми волчьими глазами щупали жигилястую фигуру оратора, посматривали на его затянутые в чистенькие обмотки дрыгающие ноги и по множеству лишь им и ведомых мелких признаков решали: стерва, приспешник буржуазии.
Потеряв терпение, на буфет вспрыгнул небольшой, но крепкий, как копыл, солдат. Он решительно отодвинул жигилястого в сторону и взмахнул рукавами.
– Братаны… – Распахнулась надетая на голое тело шинель, на расчесанной груди чернел медный крест. – Братаны, расчухали, куда он гнет и чего воображает? Не глядите, что член какого-то комитета: мягко стелет, да жестко будет спать. Он есть гнилой фрукт в овечьей шкуре… Расписывал – заслужили, мол, вы славу, доблесть…
Скрестились крики, подобны молниям:
– Заслужила собака удавку… Вшей полон гашник.
– Он, поди, из офицеров?.. Харя-то больно чиста да строга.
– То же и Керенский ботал…
– Гражданин, – вскинулся жигилястый, – вы не имеете права… Керенский – сын русской революции.
– Сукин сын, – озлобленно и гулко, как из бочки, выкрикнул новый оратор.
Грянул
хохот…
Рукоплесканиями, криками одобрения слушатели приветствовали острослова: в широких вокзальных окнах с дрогу звенели и дребезжали еще не выбитые стекла.
Солдат поддергивал спадающие стеганые штаны – за горбом звякал котелок с кружкой – и говорил… Говорил он громко, раздельно, чтоб всем и слышно, и понятно было:
– Братаны… Я фронтовик тридцать девятой пехотной дивизии, Дербентского полка. Дивизия наша по всему Ставрополью и кое-где по Кубани ставит на ноги молодую советскую власть… Полк наш расквартирован тут недалече, на хуторе Романовском… Я приехал сюда для связи… Под Ростовом действительно фронт стоит, под Екатеринодаром фронт стоит, домой нам проходу нет… Братаны, чего вам тута сидеть и кого ждать?.. Кто немощен духом, слаб телом – сдавай винтовку… Остальные, как один, организуйся в роты, батальоны, полки… Затягни за собой всех своих товарищей, зятьев и братьев… Выбирай командира, получай денежное, приварочное и чайное довольствие и – налево кругом марш… Выпускай из буржуя жирную кишку, поддерживай молодую свободу согласно декрета народных комиссаров… Али вы хуже других?.. Али чужими руками хочете жар загребать?.. Али вам свобода не мила?
– Мила, мила.
– Едем, товарищи… Кому и быть дружным, как не нам, фронтовикам?
– Известно… Артелью не пропадем.
– А домой-то когда же?
– Домо-о-ой?.. Али давно бабу не доил?
– Буржуев и в России много. Проканителимся тут, а там без нас всю землю поделят и всю воду отсвятят.
Желающие стали записываться в отряд… Кого речь прошибла, кому хотелось быть поближе к дому, а кто и спал и видел, как бы на станцию Кавказскую до водки добраться.
Записался в отряд и Максим.
Долго выбирали командиров, потом разместились по вагонам и подняли хай:
– Давай отправление!
– Мы записались не гарнизонную службу нести!
Продукты розданы, речи сказаны, эшелоны отваливали с музыкой, с криком – ура! ура! – и со стрельбой вверх.
И снова замелькали, закружились телеграфные столбы, верстовые будки, курганы, кусты, овражки…
Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах и на линейках скакали казаки, хуторяне, бабы, шли старые и малые – с бутылками, четвертями, с ведрами, кувшинами, будто на Иордань за крещенской водой.
На Кавказской – скопище людей, лошадей, эшелонов. Дальше ходу не было: под Ростовом фронт стоял, и в сторону Екатеринодара партизаны рыли окопы, отгораживаясь от Кубанской рады.
За станицей, перед винными складами, день и ночь ревмя ревела, буйствовала пьяная многотысячная толпа. Солдаты, казаки и вольные недуром ломились в ворота, лезли через кирпичные стены. Во дворе упившиеся не падали – падать было некуда – стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некоторые умудрялись и все-таки падали; их затаптывали насмерть.
В самом помещении пьяные гудели и кишели, будто раки в корзине. Колебался свет стеариновых свечей, на стенах под сетками поблескивали термометры и фильтры. В бродильных чанах спирт-сырец отливал синеватым огнем. Черпали котелками, пригоршнями, картузами, сапогами, а иные, припав, пили прямо как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, варежки, окурки. На дне самого большого чана был отчетливо виден затонувший драгун лейб-гвардии Преображенского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову.
У одного бака выломили медный кран, живительная влага хлынула на цементный пол.
Кругом блаженный смех, объятья, ругань, слезы…
Во дворе жаждущие ревели, подобно львам, с боем ломились в двери, в окна:
– Выходи, кто сыт… Сам нажрался, другому дай!
– Сидят, ровно в гостях.
– Допусти свинью до дерьма, обожрется…
В распахнутом окне третьего этажа стоял, раскачиваясь, старик в рваном полушубке и без шапки. В каждой руке он держал по бутылке – целовал их, прижимал к груди и вопил:
– Вот когда я тебя достал, жаланная… Вот оно коко с соком…
Старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребеток, но бутылок из рук не выпустил до последнего издыхания.
Из подвального люка вылез хохочущий и мокрый как мышь, весь в спирте, солдат. Грязны у него были только уши да шея, а объеденная спиртом морда была сияюща и красна, будто кусок сырой говядины. Из карманов он вытаскивал бутылки, отшибал у них горлышки, раздавал бутылки направо-налево и визгливо, ровно его резали, верещал:
– Пей… Пей… За всех пленных и нас, военных… Хватай на все хвосты, ломай на все корки… Э-э, солдат, солдат, солдатина…
Водку у него расхватали и, жалеючи, стали выталкивать со двора вон:
– Землячок, отойди куда в сторонку, просохни, затопчут…
– Я… Я не пьян.
– А ну, переплюнь через губу!
– Я… я, хе-хе-хе, не умею.
Вытолкали его из давки, и он пошел, выписывая ногами мыслете и подпевая с дребезгом:
Всю глубину материнской печалиТрудно пером описать.Тут драка, там драка: куда летит оторванная штанина, куда – рукав, куда – красная сопля… Сгоряча – под дождем и снегом – шли в реку купаться, тонули. Многих на рельсах подавило. Пьяные, разогнав администрацию и служащих, захватили вокзал и держали его в своих руках трое суток.
Ночью над винными складами взлетел сверкающий сребристый столб пламени… В здании – взрывы, вопли пьяных, яростный и мятежный пляс раскованного огня.
Огромная толпа окружила лютое пожарище и ждала, все сгорит или нет. Один казак не вытерпел и ринулся вперед.
– Куда лезешь? – ухватили его за полы черкески. – Сгоришь…
– Богу я не нужен, а черту не поддамся… Пусти, не сгорю, не березовый! – Оставив в руках держателей черкеску, он кинулся в огонь. Только его и видали.
Тревожное ржанье коней разбудило Максима – спал он в теплушке, у коней под ногами, – на вокзальных окнах и на стенках крашеных вагонов играли блики пожарища. С похмелья Максима ломало, зуб на зуб не попадал… Казаки из теплушек коней тянули, сумы тянули и – домой. Солдаты-кубанцы запасались водкой на дорогу, собирались в партии и тоже уходили в степь.
К одной партии пристал и Максим.
Из Турции и Персии, с засеянных костями и железом полей Галиции, из гнилых окопов Полесья и сожженных деревень Прикарпатской Руси, с Иллукстских укреплений и с залитых кровью рижских позиций – отовсюду, как с гор потоки, устремлялись вглубь мятущейся страны остатки многомиллионной русской армии. Ехали эшелонами, шли пеши, гнали верхами на обозных лошадях, побросав пушки, пулеметы, полковое имущество. По пустыням Персии и Урмии, по горным дорогам Курдистана и Аджаристана, по большакам и проселкам Румынии, Бессарабии и Белоруссии – двигались целыми дивизиями, корпусами, брели малыми ватагами и в одиночку, скоплялись на местах кормежек и узловых станциях, тучами облегали прифронтовые города.
На Киев и Смоленск
Калугу и Москву
на Псков, Вологду, Сызрань
на Царицын и Челябинск
Ташкент и Красноярск
летели солдатские эшелоны, как льдины в славну вёсну!
1925–1926
Над Кубанью-рекой
В России революция – по всей-то по
Расеюшке грозы гремят, ливни шумят.
Меж двух морей, подобен барсу, залег Кавказ. Когда-то орды кочевников топтали дороги Кавказа; выделанная из дикого камня дубина варвара дробила иранскую и византийскую культуру, и монгольский конь грудью сшибал тысячелетних богов Востока. От моря до моря развевались победные знамена персидских владык и деспотов. Полчища Тимура, словно поток камни, увлекая за собой малые народы, перекатывались через горные кряжи. До сверкающих роскошью пышных городов Закавказья арабы докидывали мечи свои. Ученья фанатиков и языческих пророков, как яростная чума, захлестывали страну и опрокидывали веками возводимые твердыни ислама и христианства. В веках – земля ломилась, камень кипел под конским копытом, рев бесчисленных орд, свист каменных ядер, грохот падающих крепостных стен, – сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь.
Под бок к Кавказу привалилась толстомясая Кубань.
Когда-то прикумские и черноморские степи были безлюдны. По зеленому приволью, выискивая гнезда любимых трав, с визгом и ржаньем бродили табуны гордых диких коней. По заоблачью одиноко мыкались сизые орлы; из-за облака хищник падал на добычу стремительнее, чем клинок падает на обреченную голову. По рекам и озерам дымились редкие становища медноликих кочевников, перегоняющих с места на место неоглядные отары овец. Порою, вперегонышки с ветром, проносилась налетная разбойничья ватага. Да от дыма к дыму, сонно позвякивая бубенцами, пробирался невольничий караван восточного купца, щеки которого были нарумянены, зубы и ногти раскрашены, а борода завита в мелкие кольца.
Года бежали, будто стада диких кабанов.
Когда-то на Дону и в днепровских запорогах казаковали казаки, обнеси-головы. Жили они жизнью вольною: сеять не сеяли, а сыты были, прясть не пряли, а оголя пуза не хаживали; по лиманам и затонам казаки рыбу ловили, зверя по степи гоняли, винцо пили и войны воевали. Не давали казаки покою ни хану крымскому, ни царькам ногайским, ни князькам черкесским, ни султану турецкому, ни самому царю московскому. Челны удальцов – под счастливыми парусами – летывали и в Анатолию, и к берегам далекой Персии, а коней своих добытчики паивали и в Амударье, и в быстром Дунае. На Волге понизовые голюшки купцов и воевод царевых перехватывали, корабли орленые топили, города расейские и басурманские рушили, всякой смуте и мятежу были казаки первые задирщики.
А в кременной Москве сидел грозен царь.
Царство Московское крепло и расширяло владенья свои. Под ноги царю русскому катились вражьи города и головы. Сломив могущество Пскова и Новгорода, Казани и Астрахани, царь замирил и привел в покорность ногаев и чухонцев, крымчаков и сибирцев и многие народы иных земель. Не корилась Москве одна казацкая вольница. Жили казаки по вере и заветам отцов своих, дани ни князю, ни боярину не давывали, дела решали на кругу. Гордая Москва невзлюбила того духа и, собравшись с силами, огневым боем ударила по гнездам соколиным… Закачался Дон, закачалось Запорожье, задрожала степь от конского топу да пушечного грому, запылала степь пожарами горькими… Своеволье одних атаманов срубил топор палача, другие – пали на колени, выпрашивая монаршей милости; а иные, подняв свои коши на коней, гикнули и, умываясь слезами, ушли в Туретчину. Опальные казаки, спасаясь от кнута и батога, бежали на Тамань, Кубань, Терек, на Волгу и за Волгу, на Яик. И долго еще, мстя за бунт Разина, Булавина и Пугача, цари выкуривали казаков с насиженных мест и засылали их в далекие степи Запольные, повелев укрепления строить и крестить неверов – кого крестом, кого шашкою – земли у них отнимать и богачество их разорять.
Гремел и сверкал поток времени.
Страну давила неметчина, объедал помещик, утеснял патриарх. Из Руси по многим сиротским дорогам, на привольное житье украин бежали крепостные смерды и «упорствующие в злосмрадных ересях воители за веру Христову». Над степью, грозя сияющим крестом далеким горам, вставали куренные поселки и раскольничьи скиты. Далеко ушли казаки, раздвигая рубежи русские, но всесильная рука царя всюду доставала повольников. Мало-помалу казаки были переписаны, в мундиры обряжены, медалями обвешаны, к присяге склонены и полевой службой обязаны. Милостивыми грамотами, земельными и рыбными угодьями царь задарил старшин, выборных атаманов заменил назначенными и сословья утвердил – так вольное казачество было перестроено в войско верных казаков. Ордынцы защищали каждый камень и каждый клок своих пастбищ. Дикое ржанье коней, всплески клинков и крови сияющее зарево. Под напором русского штыка ломились аулы. Сапог русского солдата топтал зеленые знамена полумесяца, и казак – добывая себе славу, а царю богатства – шашкой врубался в сердце Азии.
Мутнёхонька, быстрёхонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлёстывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора – всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами – смотрелись в быстрые воды Кубани.
С году на год станицы отстраивались церквами, каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели богатые ярмарки, лавки ломились от купецкого добра, ссыпные лабазы и элеваторы под горло были набиты хлебом, целые реки кубанской пшеницы текли на рынки Европы и Азии. С осенних заморозков до Великого поста от Тамани до Каспия по широким шляхам тянулись чумацкие обозы: гам, песня, хлопанье кнутов, в ярмах качались круторогие воловьи головы, стонали тяжелые возы, груженные зерном, рыбой, солью, строевым лесом, сапожным и щепным товаром.
Полыхали зимы морозами.
Вьюга несла со степи снежные знамена. Заметенные буранами станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарко натопленных светлицах прогуливали ночи напролет, ели невпродых, пили вина своей давки, распевали старинные и войсковые песни, до седьмого пота плясали прадедовские – времен Запорожья – лихие пляски.
А там прилетала и весна, ласковая да горячая.
Курганы первыми освобождались от зимнего плена. Одряхлевшие снега, покрываясь мертвенной синевой, прятались под кусты, сползали в овражки, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыпет поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья… Но лишь проблеснет заря и брызнут искры рассвета, зимушка без оглядки пускается в бегство – вдогонку ей несутся птичьи щебеты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копья. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать стайки жаворонков, этих отважных разведчиков грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Мелкие степные зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около своих нор. Зима в страхе пятилась, отступала в горы, на коренное становище, и отсюда – взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных мартовских метелей – с воем кидалась зима в битву на равнины, и тут бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила. Корежило, ломало льды, трещали льды, всплывали льды, поднятые талою водою. Озера и лиманы, дрогнув первой свинцовой рябью, распахивали объятия свои навстречу весне. Разливалась Кубань. Взыграв, рвала Кубань берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои. Выпущенные из птичников, гуси и утки срывались, летели на большую воду – из-за птичьего гогота и кряка не слышно было человечьего голоса. Застоявшаяся за зиму скотина, задрав хвосты, выносилась за околицу, на желанное приволье, – ржанье, рев, блеянье – всяк язык славил весну-красну.
Хороши, горячи кони, мчащие весну.
Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.
Неделя, другая – и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.
Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шкурами.
Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.
Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» – кидались с крутояра в разливы…
С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбачьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.
Станичники выезжали на покос целыми семьями – с бабами, ребятишками, принанятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клекотом стрекотали косилки, подпряженные парою, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.
К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба – каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.
В долинах, в горячем затишье вызревал табак.
Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы.
Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.
На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.
Девки рано наливались, созревали для любви.
Степь родила хлеб.
Бабы рожали крепкомясых детей.
Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.
Богатый край, привольная сторонушка…
Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой – мужики.
На казачьей стороне – и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодость. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.
Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями, подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то – многие – не досыта.
Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко роднились с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.
Так оно и было.
Вражда велась издавна.
В описываемой нами станице кладбищ и то было два: казачье – с чугунными решетками и высокими, кованными из витого железа крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев; по неогороженному мужичьему кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы – купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей же свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.