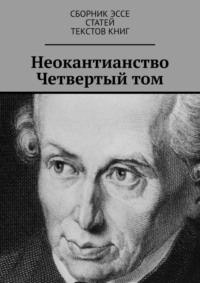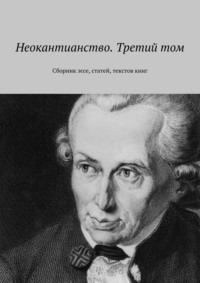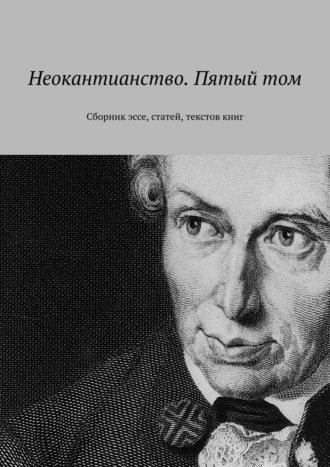
Полная версия
Неокантианство. Пятый том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Появился Кант, исследовал вавилонское сооружение и неопровержимо показал, что оно никак не может достичь вершины, пробивающей облака чувственности и касающейся того, что находится за пределами явлений. Или, без обиняков: он показал, что «то, что выдается за познание сверхчувственного, есть лишь идеи, порожденные отрицаниями, объективная истинность которых должна оставаться вечно недоказуемой».
Но как тогда? – Если, согласно рассуждениям и доказательствам Канта, истинное и реальное знание внутренней истины, лежащей в основе явлений, вообще не может быть получено, то не должно ли его учение, как и учение Аристотеля о строгой дедукции, либо закончиться чистым материализмом, либо не оставить даже тени какой-либо внутренней истины для познания?
Однако это должно было бы произойти, если бы доселе неизвестная в философии сила не действовала, чтобы предотвратить это. Появился трансцендентальный идеализм и все опосредовал. Разум, теоретически угасший в рассудке, мог теперь, за пределами рассудка, практически воскреснуть и утвердить веру в то, что стоит выше чувств и рассудка, да, впрочем, и выше самого рассудка, которая превосходила всякое знание.
Недостаток кантовского противоядия против материализма, который неизбежно присоединяется к его рассуждениям и доказательствам, является его слишком большой силой. Он очищает чувственность до такой степени, что после этого очищения она полностью теряет качество воспринимающей способности. Мы узнаем, что через органы чувств повсюду мы не испытываем ничего истинного; следовательно, и не через рассудок, который (так хочет сказать учение) должен был бы относиться только к этой чувственности и был бы совершенно пуст и без всякого дела, без материала, поставляемого ему одной ею. Соответственно, трансцендентальный идеализм или кантовский критицизм, через которые впервые должна была бы стать возможной истинная наука, напротив, позволяет науке в науке, рассудку в рассудке, всем и каждому знанию потерять себя во всеобщей бездне, как если бы не было спасения, если бы разум, только кажущийся мертвым, не вырвался теперь силой из своей ложной могилы, не прорвался через нее, не вырвался снова на свободу, не поднял себя над миром и всем в нем, более блестяще, чем когда-либо прежде, восклицая победным голосом: Се, творю все новое!
Дискуссия об идеализме и реализме, появившаяся на год раньше «Критики практического разума» Канта, рассматривает только первую, чисто теоретическую часть системы. Она упрекает последнюю в том, что она ведет к нигилизму, причем ведет с такой всесокрушающей силой, что никакая последующая помощь не может восстановить утраченное раз и навсегда.
Что всякая философия, которая, отказывая человеку в высшей способности созерцания, не требующей чувственного восприятия, стремится подняться от чувственного к сверхчувственному, от конечного к бесконечному, исключительно посредством непрерывного размышления над чувственным и законов воображения подобного в интеллекте, – что всякая такая философия, а тем самым и особенно философия бессмертного Лейбница, должна в конце концов потерять себя наверху, равно как и внизу, в чистом и бесплодном небытии знания: У автора «Разговора об идеализме и реализме» это понимание еще не обрело той ясности и совершенства, которые впоследствии, после того как он их достиг, придали ему смелости основать всю свою философию на твердой вере, которая возникает непосредственно из знающего не-знания и в действительности тождественна ему, и эта вера настолько безусловно присуща каждому человеку, что каждый человек в силу своего разума обязательно предполагает внутренне истинную, хорошую и прекрасную вещь, которая не является простым небытием, и с этой предпосылкой и через нее только и становится человеком.
Когда Лейбниц добавляет к известному аристотелевскому высказыванию, упомянутому ранее: Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu, оговорку: nisi ipse intellectus [кроме самого духа – wp], это помогает ему, к счастью, преодолеть более грубый материализм и простой сенсуализм, но ни в коем случае не подняться над миром чувств, который он сам упразднил и сделал равным ничто, к сверхчувственному, истинно реальному. Но что толку от возвышения над пустотой только в пустоту, где вместо явлений нас обманывают знаки? Такое возвышение не является истинным возвышением, а напоминает полет во сне, который не двигается с места. Кант разрушил этот сон и этим возвысился над Лейбницем и всеми другими своими предшественниками, начиная с Аристотеля. – Он разрушил этот сон, доказав самым кратким образом (для важности мы должны повторить это здесь еще раз), вопреки ложному, просто номинальному рационализму, который принимал бодрствование за сон, а сон за бодрствование, и который действительно перевернул все вверх дном, что способность, которая только формирует понятия, которая только размышляет о мире чувств и о себе, рассудок, когда оно выходит за пределы чувственности, может дойти только до пустоты, за своей собственной тенью, которая простирается в бесконечность во всех направлениях. (3)
Но так как учить этому значит так же, как утверждать: «Не только все сверхчувственное есть фикция и его понятие пусто по содержанию; но по этой самой причине, в конце концов, и все чувственное» (4): из этого следует, что это утверждение, которое начисто отрезает человека от всякого познания истинного, должно быть либо принято как действительное, либо должно быть признано против него со стороны более высокой способности, которой истинное дает о себе знать в и над явлениями, непостижимым для чувств и рассудка образом.
Философия Канта действительно опирается на такую высшую способность, и не только, как может показаться, только в конце, чтобы получить от нее необходимый, насильно вставленный «краеугольный камень философского здания, без которого оно рухнет и упадет в бездну скептицизма, открытую самим строителем; " (5) но и в начале, где эта высшая способность действительно закладывает фундамент и краеугольный камень здания с абсолютной предпосылкой вещи в себе, которая раскрывается не в явлениях и не через них для способности познания, но только вместе с ними, в глубоко позитивном или мистическом смысле, непостижимом для чувств и рассудка.
Даже в первой, чисто теоретической части критики разума Канта прямо говорится о присущей человеку «силе познания, которая испытывает гораздо большую потребность, чем просто изложить явления в соответствии с синтетическим единством, чтобы иметь возможность читать их как опыт; Таким образом, «человеческий разум» (который и есть эта сила познания) «естественно поднимается к познанию, которое идет гораздо дальше, чем любой предмет, который опыт может дать, может когда-либо соответствовать [übereinstimmen – wp] им, но которое тем не менее имеет свою реальность и ни в коем случае не является простой фантазией. " (6)
Истинно! – Но столь же истинно и то, что кантовское учение в этом вопросе противоречит само себе, поскольку оно столь же неоспоримо имплицитно подчиняет разум рассудку, вследствие чего действительно возникает путаница, которую не совсем неуместно назвать вавилонской. (7)
Как могло случиться, что основательный мыслитель Кант оказался в таком недостатке и вступил в противоречие с самим собой, сам того не обнаружив: это было показано мной в сочинении о божественных вещах и их откровении таким образом, который, конечно, не умаляет славы этого поистине великого человека. Касаясь этого сочинения, я лишь добавлю здесь следующее напоминание о качественном различии между разумом и рассудком, свойственном мне и расходящемся с Кантом; не для того, чтобы принудить к пониманию читателей, не желающих понимать, но для того, чтобы облегчить это усилие другим, искренне желающим лишь правильно и полно понимать и в то же время испытывающим желание примириться с этим предметом, особенно с самим собой.
Во «Введении в трансцендентальную логику» Кант справедливо замечает, «что из двух качеств нашего разума: чувственности и рассудка, ни одно не следует предпочитать другому; потому что мысли без содержания пусты, а созерцание без понятий слепо; следовательно, для достижения человеческого знания необходим союз этих двух деятельностей». (8)
Я добавляю:
Как рассудок нельзя предпочитать чувственности, а чувственность – рассудку, так и разум нельзя предпочитать рассудку, а рассудок – разуму.
Без рассудка мы не имели бы ничего в наших чувствах; не было бы силы, объединяющей их в себе, (необходимой даже самому низшему животному для его живого существования), не было бы и самого чувственного существа.
Точно так же без рассудка у нас не было бы ничего в разуме: не было бы самого разумного существа.
Тем не менее, человек возвышается над просто животным существом исключительно благодаря свойству разума. Если пренебречь этим свойством, которое существенно отличает человеческий род от животного и принадлежит последнему абсолютно и исключительно, то можно полностью оправдать часто повторяемое утверждение, что разница между орангутангом и калифорнийцем или жителем Огненной Земли гораздо меньше, чем разница между калифорнийцем или жителем Огненной Земли и Платоном, Лейбницем или Ньютоном.
Смысл этого утверждения становится еще более ясным, если его сформулировать следующим образом: Разница между более совершенным животным, слоном, например, или бобром, и несовершенным, устрицей или полипом, на уровне существования против уровня существования разительно больше, чем между упомянутыми некультурными человеческими существами и более совершенными животными.
Это истина, и человек действительно отличается от животного только по степени, а не по виду и сущности, если он не имеет ничего большего перед последним, чем превосходное созерцание; а именно, превосходное созерцание только одной и той же многообразной чувственной материи, которая также поставляется более совершенному животному с помощью его чувств-приспособлений. Тогда преимущество человеческого интеллекта над животным подобно преимуществу глаза, вооруженного микроскопом или телескопом, над глазом, не вооруженным ими. (9)
По моему убеждению, вопрос: отличается ли человек от животного в роде или только в степени, меньшим или большим количеством тех же самых способностей, – тождественен с вопросом: является ли человеческий разум только рассудком, стремящимся над чувственными образами, обращаясь к ним одним в истине, или более высокой способностью, позитивно открывающей человеку то, что истинно, хорошо и прекрасно само по себе, а не просто представляющей ему пустые объективно несвязанные образы (идеи)?
Первое: что человек отличается от животного, что разум отличается от рассудка – не по виду, а только по степени, не качественно, а только количественно – было в основном мнением всех неоплатонических философов, от Аристотеля до Канта, как бы ни отличались друг от друга их учения, как бы ни казались они противоположными друг другу до основания.
Кант в странной, весьма примечательной последней основной части своей «Критики чистого разума» ставит на весы аристотелевских рационалистов и сенсуалистов и находит их обоих равными в односторонности и непоследовательности. Я полностью согласен с высказанным там суждением, отдаю предпочтение, вместе с Кантом, голому несмешанному сенсуализму Эпикура, как системе, не только перед смешанным сенсуализмом Локка, но и перед искаженным и, благодаря этому искажению, совпадающим со спинозизмом (Его письма об учении Спинозы, Дополнение V 1) платонизмом Лейбница. (10)
Единственное, что отделяет меня от кантовского учения, это то, что также отделяет его от самого себя и ставит его в противоречие с самим собой, а именно то, что оно одновременно предполагает и отрицает существование двух специфически дифференцированных источников знания в человеческом разуме, как было показано выше; а именно: первый – в молчании и бессознательно; второй – явно, явно и абсолютно.
Кантианское учение открыто и прямо исходит из утверждения и сохраняет его до конца, подтверждая его повсюду: что кроме чувственного восприятия (эмпирического и чистого) нет другого источника знания, из которого рассудок мог бы черпать объективно достоверные понятия, действительно расширяющие его познание.
Сам по себе рассудок, хотя и называется вторым источником знания, на самом деле таковым не является, поскольку через него предметы не даются, а только мыслятся. Думать – значит судить. Суждение, однако, предполагает понятие, понятие предполагает восприятие. Нельзя мыслить, не зная, что помимо мышления существует нечто, согласно чему мышление должно быть, что оно должно доказывать. Если существуют априорные представления, обусловливающие сам реальный опыт, то могут существовать и априорные понятия и суждения, не зависящие от реального опыта, т.е. предвосхищающие его. Однако без всего данного, будь то в чистом или эмпирическом восприятии, рассудок, который проистекает из основной способности разума, силы воображения (согласно Канту, Кр. д. р. Внфт, стр. 677), не может развиться и достичь реального существования. Поэтому оно обусловлено чувственностью, и мышление обращается к ней лишь как к средству (Kr. d. r. Vnft., стр. 33).
Но рассудок, производя понятия из понятий и постепенно поднимаясь к идеям, может легко впасть в заблуждение, что в силу этих логических фантазмов, возвышающихся над чувственными восприятиями, он обладает не только способностью, но и самой решительной готовностью действительно перелететь через мир чувств и самого себя и достичь своим полетом высшей науки, науки о сверхчувственном, независимой от восприятия.
Эта ошибка рассудка, говорит Кант, порождается «иллюзией, которая так неизбежно заложена в природе человеческого познания, что даже самая острая критика не может ее искоренить, а может только помешать ей быть обманутой». (Kr. d. r. Vnft. стр. 670).
Вся теоретическая часть философии Канта направлена на это: на разоблачение ложного рационализма, который обманывает сам себя и фальсифицирует науку.
Раскрыть этот самообман снизу вверх – то же самое, что уничтожить его снизу вверх и навсегда.
Таким образом, на время «по крайней мере, освободилось место для подлинного рационализма». Это поистине великое деяние Канта, его бессмертная заслуга.
Но здравый смысл нашего мудреца отказался скрыть от него тот факт, что это пустое место должно было немедленно превратиться в бездну, поглощающую всякое познание истинного, если только – Бог не вступится за средство, чтобы предотвратить это. (11)
В том допущении, что идеи внешних чувств могут не только относиться, но и, несомненно, относятся к чему-то, существующему независимо от них, называемому вещью-в-себе, эти идеи называются «явлениями», и тогда необходимость самого допущения выводится из этого обозначения (исключительно из него), поскольку, очевидно, было бы непоследовательно говорить о явлениях, не предполагая, что есть нечто, что там появляется (Кр. д. р. Внфт, Предисловие стр. XXVIf). Но не должно быть непоследовательным говорить о явлениях и при этом утверждать, что в них и через них ничего из скрытого за ними истинного и подлинно реального не открывается познающей способности; не должно быть непоследовательным называть явлениями такие представления, которые только представляют себя, эти сквозные призраки, хотя в них действительно представляет себя только собственный странный ум, который только и производит такие пустые призраки.
И на самом деле, по мнению Канта, этот разум не может даже представлять себя, поскольку мы остаемся в неведении относительно того, почему мы должны обязательно создавать в себе чистые фундаментальные призраки, пространство и время, и почему для того, чтобы производить то, что мы называем познанием, мы связаны именно с двенадцатью фундаментальными понятиями и, конечно, только с этими и никакими другими (Кр. д. р. Внфт. стр. 145f).
Таким образом, путь кантовского учения обязательно ведет к системе абсолютной субъективности, но по этой самой причине радует объясняющий рассудок, который называется философствующим рассудком и который в конце концов не объясняет, а только истребляет, и против него есть только не объясняющий, а положительно раскрывающий, абсолютно решающий разум или естественная вера в разум, который предостерегает от этого пути. Путь якобинского учения, поскольку он столь же неизбежно ведет к системе абсолютной объективности, не устраивает рассудок, придерживающийся только постижимого (он, вероятно, также называет себя философствующим рассудком) и имеющий для себя только не объясняющий, прямо раскрывающийся рассудок или естественную веру в разум. (12)
Если бы кантовское учение противоречило естественной вере как основательно обманчивой, оно оставалось бы свободным от противоречий, по крайней мере, с этой стороны, и против него не было бы аргументов. Но оно неопровержимо исходит из веры в природу в материальный мир, существующий независимо от наших представлений, и лишь впоследствии уничтожает ее учением об абсолютной идеальности всего пространственного и временного, причем так, что, как я уже выражался, не исходя из веры в природу как твердого и прочного основания, нельзя войти в систему, но нельзя и упорствовать в ней и обосноваться в ней. Позже Канта не удовлетворяла даже вера в природу: «Это позор для философии «и вообще человеческого разума», – говорит он, – «предполагать существование вещей вне нас – из которых мы черпаем весь материал для знания, даже для нашего внутреннего чувства (которому мы обязаны «Я») – просто на веру, а если кто-то усомнится в этом, не быть в состоянии предложить ему достаточное доказательство». (13) Для того чтобы залечить этот ущерб, нанесенный философии, он изобрел демонстрацию, которая – что удивительно! опровергла прежние неполные или половинчатые идеализмы Картезиуса, Малебранша и Беркли целым и законченным, кантовским универсальным идеализмом. Но этот полный всеобщий идеализм, который в одинаковой степени упраздняет мир духа и мир тела, следует называть уже не идеализмом, а – критической философией. (14)
Весь идеализм в целом основан на аргументе, что материей наших идей может быть только ощущение, модификация нашего «я», поскольку невозможно, чтобы предметы, существующие вне нас сами по себе, проникали в душу через глаз, ухо и осязающую руку, как приборы в комнате, или чтобы их свойства переходили в нашу воображающую способность. Таким образом, если предположить, что предметы, отличные от воображения, действительно соответствуют нашим представлениям, то мы просто страдаем от них, не получая через эти страдания никакого знания о том, чем могут быть сами предметы.
Кантианский идеализм предполагает предметы, соответствующие идеям par excellence, и поэтому хочет быть неидеализмом; ибо, говорит он, идеализм состоит в утверждении, что нет других предметов, кроме мыслящих существ, и что другие вещи, которые мы полагаем воспринимать в восприятии, являются только идеями в мыслящих существах (воображениями), которым, в действительности, не соответствует никакой предмет, находящийся вне их (мыслящих существ). (15) Подобное, продолжает он, ни в коем случае не утверждается мной (трансцендентальный неидеализм), а как раз наоборот, а именно: без тебя Я невозможно. (16) – «Доказывая, что даже внутренний опыт Я возможен лишь при условии внешнего опыта, я отплачиваю идеализму за игру, которую он ведет, наоборот, с большим правом.» (Кр. д. р. внфт. стр. 274f и стр. 519)
Что ж! Но что, собственно, дает эта перевернутая игра, в которой картезианскому cogito ergo sum противостоит только столь же конституированное cogito ergo es, [я мыслю, следовательно, до тебя /wp]? На самом деле ничего, кроме того, что было указано ранее и что мы с удовольствием повторяем здесь, а именно: вместо прежних половинчатых и потому непоследовательных идеализмов – полный и потому тщательно последовательный всеобщий идеализм, охватывающий оба мира.
Но прежде всего здесь должно смущать само утверждение, что для философии и всего человеческого разума было бы скандалом, если бы не было доказательств существования предметов, соответствующих нашим чувственным впечатлениям, существующих помимо способности воображения и независимо от нее; поскольку, в конце концов, для философии и всего человеческого разума – согласно тому же критицизму – не является или не должно быть скандалом то, что мы должны признать себя неспособными доказать реальность предметов понятий разума или объективную действительность идей: существования Бога, свободы, субстанциальности и бессмертия собственного духа, быть научно истинными или доказанными. Таким образом, никакое злословие философии и вообще человеческого разума не является тем открытым признанием неспособности, от знания которой неотделимо убеждение: Философия как наука, действительно и подлинно выходящая за пределы небытия чувственного мира, невозможна; таким образом, это именно та наука, ради которой, согласно многократно повторяемому утверждению самой Критики, если бы она была завоевана, все другие науки должны были бы радостно сдаться, поскольку все они только пророчествуют об этой, как о той, которая должна прийти, «чтобы дать нам основание для наших величайших ожиданий и перспектив конечных целей, в которых все усилия разума должны, наконец, объединиться» (Kr. d. r. Vnft. p. 491); наука – если суммировать все в одном – от которой нельзя отказаться без причины, как от доказавшей, что она не является истинно открывающей, а только заманчивой, способность, вечно ставящая на пути науки пустые жонглирования, беспокойно подражающая и дразнящая интеллект, также будет оставлена.
Критика справляется с раздражением и не позволяет возникнуть отчуждению, заменяя отсутствие доказательств объективной истинности идей, которые теоретическая часть системы выставляет в самом ярком свете, в практической части верой, которая является не просто верой, а верой в разум, и как таковая с полным правом возвышается над всеми знаниями рассудка, которые (согласно критике) относятся только к опыту чувств. Но это возвышение веры с полным правом над знанием, и даже над определенным знанием, которое прямо противоречит ей, было бы невозможно, если бы все знание, как истинное объективное знание, не было бы уже заранее аннулировано посредством трансцендентального идеализма. Соответственно, истинное ведение дела таково: Критика сначала, ради науки, теоретически подрывает метафизику; затем – поскольку теперь все хочет погрузиться в разверстую бездонную пропасть абсолютной субъективности – снова, ради метафизики, практически подрывает науку.
Однако по своему духу учение о вере, которое Кант позволяет занять место разрушенной им прежней метафизики, столь же истинно, сколь и возвышенно. В человеке есть инстинкты, в нем есть закон, который непрерывно велит ему проявить себя более могущественным, чем окружающая и пронизывающая его природа. Поэтому искра всемогущества должна светиться в нем как жизнь его жизни; или же ложь является корнем его существа. В последнем случае, зная себя, он должен был бы погибнуть в отчаянии внутри себя. Но если в нем истина, то и свобода, и самое истинное знание проистекает из его воли. Совесть открывает ему, что Всевышний – это не природа, вечно преобразующая себя по законам железной необходимости, но что над природой есть Всевышний, образом которого является человек.
Взирая на Бога, человек создает в себе чистое сердце и определенный дух; помимо себя, добрые и прекрасные вещи: творческая свобода, таким образом, не является фиктивным понятием; ее понятие – это понятие провиденциальной и чудесной силы, которую человек осознает в своей разумной личности через себя: как таковая она должна быть преизобилующей в Боге, если природа произошла от него, а не он от природы; ночной образ воображения, который развеивает день науки.
Всемогущество без провидения – это слепая судьба, а свобода и провидение неотделимы друг от друга, ибо чем была бы свобода без знания и воли, и какая воля предшествовала поступку или только сопровождала его?
Хотя непреодолимое чувство – свидетельство восприятия через разум – заставляет нас приписывать человеку свободу и провидение, нам, тем не менее, трудно впоследствии в размышлениях вновь отрицать их, более того, отрицать их повсюду. Ведь и то, и другое совершенно непостижимо для разума, а потому кажется невозможным. Постижимое – это только предвидение из опыта, ничем существенно не отличающееся от ожидания подобных случаев, встречающихся и у животных, а не провидение в действительном понимании. Постижимая – это только свобода, над которой довлеет всеобщий закон причинной связи, механически воспроизводящаяся деятельность, которая следует общему (динамическому или атомистическому) движущему механизму, а не свобода, которая порождает себя сама и с намерением, которая изначально начинает дела и поступки, и потому является единственной свободой, достойной этого имени.
Допущение реального и истинного провидения и свободы не только в высшем, но и в каждом разумном существе, и утверждение, что эти два качества предполагают друг друга, – вот что отличает мою философию от всех других философов, начиная с Аристотеля и по сей день.