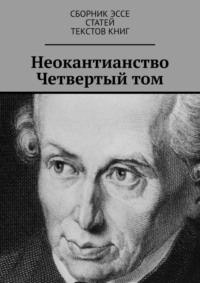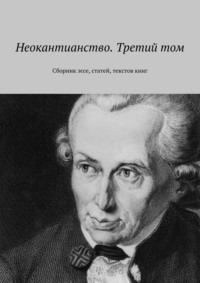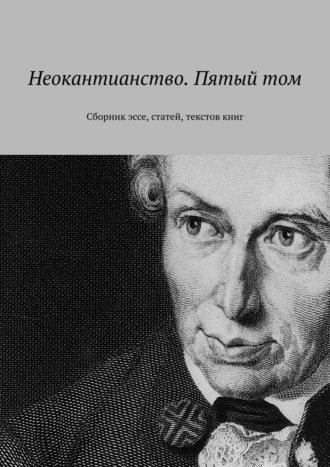
Полная версия
Неокантианство. Пятый том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Тот факт, что мы вообще делаем синтетические суждения, т.е. те, о возможности и необходимости которых справедливо спрашивает критическая логика, объясняется лишь ограниченностью нашего рассудка, «неполнотой нашего знания» (Тр. 9), ибо человек «не имеет точного, подробного, полного понятия о какой-либо вещи, пока не видит ее отношения ко всем возможным вещам» (Пр. 42). Логика, следовательно, в той мере, в какой она является формальной логикой и выводит свои предложения только в соответствии с принципом противоречия, совершеннее математики, которая требует априорной теории, а та, в свою очередь, совершеннее физики, которая, к тому же, все еще зависит от апостериорной концепции. Мы должны стремиться сделать математику, если возможно, аналитической наукой; только если она будет полностью таковой, если ее аксиомы можно будет доказать логически, т.е. аналитически (как это пытается сделать Маймон с предложением: прямая линия – кратчайшая между двумя точками, что, признаться, не удовлетворяет его самого (Tr. 65f)), – только тогда наш рассудок будет бесконечным. Меймон не хочет браться за разработку всех синтетических предложений математики таким образом, но считает в принципе возможным, что это произойдет (Tr. 179). Но каждое аналитическое суждение предполагает первоначальный синтез: предикат может быть аналитически присоединен только к субъекту, который первоначально с ним связан. Но поскольку, с другой стороны, ни одно синтетическое суждение, которое мы делаем, не является оригинальным (потому что ни одно, как можно сказать в смысле Маймона, не является синтетическим и аналитическим одновременно), нам остается только средство сделать все наши синтетические суждения как можно более аналитическими, что приводит нас вместе с Лейбницем к идее бесконечного анализа, которого последний требовал с полным основанием (Pr. 46).
На поставленный Кантом вопрос о правовом основании синтетических суждений a priori можно ответить, только если предположить, что чувствительность и рассудок, которые у нас раздельны, образуют изначальное единство в бесконечном рассудке, что они должны мыслиться как одна и та же сила в «бесконечном мыслящем существе, и что чувствительность есть неполное рассудок у нас» (Тр. 183). Для кантовской философии, которая останавливается на рассмотрении чувствительности и рассудка как «двух совершенно различных источников нашего знания» (Тр. 63), вопрос: quid juris? неразрешим, ибо при такой предпосылке никакая истина, даже истина для нас, чисто субъективная истина, не может возникнуть из их синтеза. Если субъективная истина есть вообще только истина, то она не может быть просто субъективной, но должна иметь объективное основание истины, т.е. основание в истине бесконечной мысли (Tr. 182, 427). Субъективная истина может быть только неполной, ограниченной; ее ограниченность состоит в том, что она содержит в себе нечто немыслимое, просто данное, именно: чувственное. Если бы чувственность не имела своего основания в самом бесконечном существе (а не только в нас, людях), то рассудок не мог бы достичь никакого знания в союзе с ней. В чувственности, однако, мы наталкиваемся на препятствие, но чувственность соответствует чему-то в самих вещах, что мы только не можем мыслить полностью. Если бы мы могли мыслить это полностью, мы бы превратили вещи в ничто иное, как отношения и связи понятий: мы бы смогли позволить данности возникать из самого рассудка (Tr. 86) Поскольку у нас нет способности к этому, мы конечны; но даже как конечные существа мы не пришли бы к знанию вещей, если бы мы не были отчасти бесконечными, если бы наш рассудок сам не был бесконечным, – только ограниченным определенным образом. «Мы предполагаем (по крайней мере, в качестве идеи) бесконечный разум, в котором формы в то же время сами являются объектами мысли; или который производит из себя все возможные виды связей и отношений вещей (идей). Наш рассудок – то же самое, только в ограниченном виде» (Tr. 64f) (8). То, что «наш» рассудок, в той мере, в какой он является источником истинности синтетических суждений, одновременно бесконечен и ограничен, в этом Маймон видит актуальную проблему трансцендентальной философии, поскольку Фихте, по его словам, увидит ее именно в этом и сделает это тождество и различие движущим принципом учения о науке. Это самый важный шаг, который Маймон делает дальше Канта (9). Кант довольствовался дифференциацией, но не ставил проблему тождества как проблему (хотя неявно ссылался на нее). Маймон признает, что трансцендентальная дедукция находит свое конечное основание только в тождестве конечного и бесконечного рассудка. То, что конечный рассудок может мыслить идею бесконечного, делает его самого бесконечным. «Как бы это было, если бы… все предметы человеческого знания можно было бы подвести под одно и то же понятие? Здесь человеческий разум теряет себя в бесконечности, и человек, как конечное существо, становится ничем для человека, как бесконечного существа» (Pr. 42f) (10).
Таким образом, проблемы эпистемологии Канта приобретают новый облик. Прежде всего, из этого следует, что противопоставление явления и вещи-в-себе не может иметь для Маймона того смысла, что нам доступны только явления, тогда как другое, более высокий рассудок способен распознать вещи-в-себе, умея придать реальность идеям разума с помощью другого восприятия, которое нам отказано. Скорее, различие, которое Маймон проводит в отношении сил познания, чувственности и рассудка, согласно которому чувственность есть не что иное, как неполный, ограниченный рассудок, должно влиять на различие между нашими чувственными объектами и сверхчувственными: последние есть не что иное, как полностью познанные чувственные объекты. Маймон пишет поистине озаряющее и просветляющее положение: «По моему мнению… познание вещей в себе есть не что иное, как полное познание явлений» (W. 176f). Идея бесконечного рассудка обретает объективную реальность многообразными путями через объекты созерцания, и наоборот, созерцания «обретают объективную реальность только потому, что должны в конце концов раствориться в этой идее» (Tr. 366). Познавая явления, мы познаем вещи в себе (иначе наше знание вообще не имело бы объективности), – но не полностью, не так, как их познает бесконечный интеллект, а ограниченно. Таким образом, сверхчувственное само является разумным; посредством познания мы превращаем просто данное в мысль, мы превращаем явления в вещи как таковые. «Я отхожу… от него (г-на Канта) в этом, – говорит Маймон, – в том, что он утверждает, что они (а именно, предметы метафизики) вообще не являются предметами, которые могут быть поняты каким-либо образом, определяемым рассудком. Я же, напротив, считаю их реальными объектами, которые, хотя и являются сами по себе простыми идеями, тем не менее могут мыслиться определенным образом посредством возникающих из них представлений» (Tr. 195f).
Поэтому знание явлений может стать знанием вещей-в-себе только в идее их полноты; для этой идеи, однако, нам не нужно предположение о рассудке, которое имеет в своем распоряжении другой взгляд, направленный на другие объекты, чем наш, а скорее о рассудке, мыслящем те же объекты полностью. В идее бесконечного мышления мир объектов и Я, которое их мыслит, – это «одно и то же». Поэтому Бог, мир и душа составляют «троицу» – только в нашем ограниченном познании они разделены, но этот абсолютный способ представления является «истинным» (Tr. 206f). Каждая задуманная вещь «сама по себе» является идеей; она отлична от своего понятия лишь постольку, поскольку идея ставит перед нашим познавательным аппаратом неразрешимую задачу. В идее, или для бесконечного рассудка, понятие и вещь – одно и то же; идея есть идея своего тождества, упраздненной дифференциации (Tr. 103f, 365). Различие между вещью и понятием, между бытием и мышлением основано на разделении материи и формы: познание вещей состоит в синтезе того и другого. Но полное познание или синтез есть идея, ибо в ней материя есть не что иное, как полностью определенная материя: материя и форма едины в идее синтеза. Эта идея может рассматриваться либо как идея полностью определенной материи, либо как идея полностью осуществленной формы, – либо как идея полного определения материи, то есть как идея рассудка, либо как идея полного осуществления формы, то есть как идея разума (Tr. 75f). «Итак, согласно этому способу представления, понятие материи – это не категория, а идея, к которой всегда можно приблизиться в использовании, но которой никогда нельзя достичь. … И так же обстоит дело со всеми другими категориями». (W. 168).
Для того чтобы познать предмет, нам необходимо, помимо формы, чистое понятие рассудка, правило, материя, данность, к которой относится форма, с которой она актуализируется или становится «реальной»; с другой стороны, однако, «полнота мышления о предмете требует, чтобы в нем ничего не было дано, но чтобы все было мыслимо». Так возникает антиномия, которую мы можем преодолеть, «делая наше мышление все более и более полным, благодаря чему материя всегда приближается к форме вплоть до бесконечности» (W. 162f) Согласно Маймону, антиномия возникает не в разуме, а уже в рассудке, синтез которого сам по себе является двусторонней идеей. Объективность опыта – противоречивое понятие, поскольку объективным является только полное знание, тогда как опыт по своей природе никогда не бывает полным, а всегда находится лишь на пути к тому, чтобы стать полным. Не только задача производства всего опыта бесконечна, но бесконечен и каждый отдельный синтез опыта, поскольку он несет в себе двуединую идею и требует невозможного: ведь он может стать «объективным» только тогда, когда решена эта всеобъемлющая задача объединения всех вообще возможных в разуме отношений вещей, т.е. когда опыт вошел в познание как тотальность. Именно абсолютность становится здесь видимой на почве объективности. Маймон наиболее ясно признает, что проблема вещей-в-себе, заявленная в понятии реальности, может быть доведена до своего решения только в учении об идеях; что понятие вещей, которые воздействуют на нашу чувствительность и, действуя на нее, вызывают в нас ощущения или многообразие опыта, есть не-понятие, противоречащее духу критики Канта. Он первым из посткантианцев заменил понятие вещи-в-себе, которое Якоби уже критиковал как компонент критики разума, понятием идеи. Данное – это то, что дано нашему интеллекту для мышления; это то, что он должен произвести из себя, т.е. то, что он должен произвести посредством мышления, но не может произвести. «Эмпирический (материал) представлений действительно… дается чем-то помимо нас, (т.е. отличным от нас). Но нельзя дать ввести себя в заблуждение выражением: вне нас, как будто это нечто находится с нами в пространственном отношении, потому что само пространство есть только форма в нас; но это вне нас означает только нечто, в зачатии которого мы не сознаем никакой непосредственности, т.е. простое страдание (ввиду нашего сознания), но никакой деятельности в нас» (Tr. 202f) (11). Именно этим вопросом и займется Фихте.
Скептицизм Маймона
Основываясь на этих взглядах, Маймон развивает то, что он называет своим скептицизмом. Прежде всего, он касается оправдания опыта. Поскольку опыт только обещает стать объективным, но никогда им не становится, да и вообще никогда не может быть объективным в принципе, пока он является опытом (ибо понятие опыта требует понятия данности), «факт» общезначимого и необходимого знания опыта следует отрицать. Этот факт – скорее идея, невыполнимая задача. (Tr. 226f) (12) Суждения об опыте имеют только субъективную, а не объективную необходимость, поскольку они основаны на восприятии и индукции: «но поскольку эта индукция никогда не может быть полной, субъективная необходимость может, следовательно, всегда приближаться к объективной, но никогда не может достичь ее полностью» (W. 176). Маймон обнаруживает пробел в доказательстве истинности категорий для опыта; он обнаруживает то круговое рассуждение, которое совершается в мысли о трансцендентальном суммировании (Subsumtion), о котором уже говорилось выше. «Критическая философия, таким образом, не может сделать здесь ничего другого, как показать, что для возможности опыта вообще, в том смысле, в каком она принимает слово опыт, общие синтетические принципы (например, все имеет свои причины и т.п.), и, в свою очередь, для реальности (отношения к объекту) этих принципов, опыт должен быть предпослан как факт, т.е. он должен быть найден в определенной категории опыта». (13) Маймон придерживается идеи трансцендентального субсуммирования (14); поэтому трансцендентальная дедукция, глубочайший смысл которой, конечно, ускользает от него, должна казаться ему недостаточной и неокончательной. (15) Данное не может быть подведено под чистое понятие рассудка, поскольку оба они неоднородны друг другу; даже чистая интуиция (к которой мы вскоре вернемся) не может установить посредничество, поскольку многообразие, данное в ней априори, в свою очередь неоднородно эмпирически данному. Принципы не являются априорными законами природы, ибо законы природы имеют эмпирическое содержание, они являются законами опыта: но между принципами и законами опыта существует разрыв, который не может быть заполнен. «Не существует… нет никаких специальных законов опыта, которые содержали бы в себе необходимость и общую достоверность (в том смысле, в котором Меймон использует эти предикаты). Поэтому не существует и общих законов опыта a priori (например: все имеет свою причину и т.п.), так как критическая философия не может продемонстрировать их реальность» (Пр. 52) (16).
Маймон повторяет это принципиальное возражение бесчисленное количество раз в различных формах. То, что за каждой причиной следует следствие, конечно, верно, потому что в понятие причины входит следствие: Причина и следствие – это коррелятивные понятия. Из этого, однако, нельзя сделать вывод об истинности этих понятий в их эмпирическом применении (именно это имел в виду Кант, когда говорил, что доказательства принципов не могут быть выведены из одних лишь понятий). Ибо никакое эмпирическое содержание не может быть подведено под них так же, как частный случай его реализации может быть подведен под общий закон природы, индуктивно полученный через опыт, и таким образом его законность может рассматриваться как необходимая. Даже если я рассматриваю то, что эмпирически дано, как происходящее во времени, это следствие не дает мне возможности определить его причинно; ибо то, что следует одно за другим во времени, само по себе не является особым «случаем» причинного следствия, но должно стать им прежде всего через «применение» категории, через синтетический акт связывания многообразия по правилу причинности. Если я могу доказать правомерность этого применения на основе трансцендентальной дедукции, то я вправе подвести то, что причинно связано в данном конкретном случае, под принцип; но это подведение, сама возможность которого находится под вопросом, скорее предполагается дедукцией (в той мере, в какой трансцендентальное подведение является ее нервом), и из него выводится правомерность применения категории. Это доказательство хитроумно. Оно исходит из того, что должно быть доказано как «факт»; кто сомневается в этом факте (а Меймон сомневается), для того он не имеет связности: «что, в конце концов, определяет способность суждения мыслить последовательность согласно правилу с самим правилом рассудка… и каждый конкретный член этой последовательности в согласии с каждым конкретным членом правила рассудка …??» (Тр. 54)
Однако этот вопрос попадает в точку. Он направлен на случай применения категории. Если способность суждения зависит от субституции, то недостаточно установить правила рассудка и принципы, под которые она подводится, но должно существовать трансцендентальное основание, трансцендентальное правило и для применения, чтобы субституция стала трансцендентальной (объективной); правило применения правила не может быть тождественно этому последнему. Применение требует синтеза чистой синтетической функции и синтезируемого таким образом многообразия; оно требует синтеза синтеза (чистого понятия рассудка) и не-синтеза (эмпирического многообразия) – что оно гарантирует? за какое правило оно ручается? Здесь, в дополнение к трансцендентальной власти суждения, которая производит общие принципы, должна предполагаться трансцендентальная власть воображения или изобретения; посредством которой эти принципы актуализируются или реализуются; и только если это «изобретение» будет выводимо в соответствии с его правовым основанием, критический вопрос: quid juris? может быть удовлетворительно отвечен (Tr. 102f; W. 48f). Задачей Фихте будет дать этот удовлетворительный ответ, показав, что воспринимаемые вещи возникают в той же мере, что и категории, и вместе с ними в то же время из деятельности (в этом расширенном смысле) продуктивного воображения, – что последнее действительно выполняет то, что, согласно Канту, должно выполнять трансцендентальное субсуммирование, функцию которого Маймон с полным основанием объявляет недостаточной.
Маймон признает, что вопросу: как возможны синтетические априорные суждения? предшествует другой: как вообще возможен синтез? (17) – и что на последний не будет ответа, если априори рассматривать как априорное суждение (как принцип) для себя, если обойтись без «применения» априори, т.е. его функции (а это по сути действующая функция, actus, «применение» себя!). Он признает, что ссылка Канта на факт опыта, возможность которого необходимо постичь, имеет более глубокий смысл: «Возможность синтетической пропозиции… может быть продемонстрирована только его действительностью (его реальным использованием)» (Tr. 358), что поэтому возможный опыт не может мыслиться отдельно от реального, но что трансцендентальная действительность и возможность объединены в тождественном. Маймон обнаруживает, что трансцендентальная дедукция имеет свой высший принцип в этом изначальном объединении реального и возможного, акта и простой функции. Он ступает на путь, на котором только теория субсуммирования может быть преодолена и будет преодолена Фихте. Правда, он не идет по этому пути до конца, поскольку не задумывается над тем, что в Я и только в Я (в изначальном синтезе трансцендентальной апперцепции) происходит это объединение: что в Я возможность и действительность, понятие и бытие – одно и то же, поскольку Я есть не что иное, как актуализация своей функции, не что иное, как действие, актуальность, спонтанность, – акт самополагания. Поэтому признание Маймоном тождества возможного и действительного в синтетической пропозиции приводит лишь к скептицизму: реальность (факт) сомнительна, отсюда и возможность того же самого, «возможный опыт», функционирование функции, априорная (и апостериорная) реализация возможности, а также ее самопознание в трансцендентальной логике. Если смотреть глубже, то скептицизм Маймона основан на том, что он не признает позитивного значения синтетического акта, посредством которого Я реализует себя и тем самым производит опыт, или еще глубже на том, что он находит в диалектике только негатив противоречия. От него ускользает, что всякая позиция требует отрицания, что абсолютная позиция бесконечного интеллекта включает в себя относительность ограниченного, хотя однажды он произносит слово, указывающее на будущее: трансцендентальное отрицание есть идея разума (Tr. 118) (18). В этом отношении, однако, Фихте также останется «маймонианистом»; для Фихте также все синтетическое знание (опыт и философия) будет актом лишь ограниченного интеллекта в противоположность абсолютному знанию. Только Гегель сумеет упразднить этот скептицизм, передав его функцию самому разуму.
Маймон (подобно Фихте и Шеллингу, можно даже сказать, подобно всей догегелевской спекуляции) зациклен на представлении абсолютного идеала знания как абсолютно аналитического (тетического) синтеза, который имеет место только в бесконечном интеллекте – вне всякого ограниченного синтеза, основанного на дуализме – идея которого противоречива «для нас». Хотя он понимает, что возможность всякого синтеза раскрывается только в его действительности, он, тем не менее, считает, что пропасть между возможностью и действительностью неосуществима «для нас», поскольку они абсолютно противоположны друг другу, – что она может быть де-юре преодолена только бесконечным интеллектом (в котором ее больше нет). Он считает, что дуализм материи и формы должен быть сначала аннигилирован, прежде чем может быть осуществлено их законное соединение: что соединение, отраженное в самом себе, есть само аннигилирование, что возможность реализуется в действительности, лежит за пределами его кругозора. Это основа его скептицизма. В конечном счете, он состоит не столько в сомнении в факте опыта (ибо сам Маймон говорит, что индукция достаточна для опыта, как построение для математики (например, Tr. 359f; W. 173f)), сколько в сомнении в истинности нашего знания, сопоставленного с знанием бесконечного интеллекта; – но этот скептицизм Маймон разделяет с Кантом, как и с Фихте, а также еще с Шеллингом (19). Скептицизм Меймона вытекает из спекулятивного мотива его мысли; в нем покорность знанию, характерная для критицизма, получает резкое выражение, вытекающее из спекулятивного требования. Поэтому она выполнит свою миссию, побуждая спекулятивную мысль – как и всякий скептицизм – преодолеть эту покорность. Именно эту роль он призван сыграть в развитии идеализма. Фихте прямо заявляет, что «читая новых скептиков, особенно Энесидема и превосходные сочинения Маймона, он полностью убедился» в том, «что и раньше было для него весьма вероятным»: «что философия, даже благодаря последним усилиям самых проницательных людей, еще не поднялась до ранга очевидной науки».
Примечания
1) Карл Леонгард Рейнгольд, L. u. B. II, стр. 205f
2) Фридрих Кунце, Философия Саломона Маймона, 1912 г.
3) Здесь и далее сокращенно Тр., В. и Пр.
4) Особенно «Категории Аристотеля», а также «Попытка новой логики», обе 1794.
5) Кто хочет познакомиться с ними поближе, отсылается к книге Кунце, в которой этот вопрос рассматривается самым точным, можно сказать, исчерпывающим образом.
6) Ср. Кунце, стр. 294, 305, 341.
7) Ср. Кунце, стр. 323.
8) Заблокировано мной. Маймон однажды очень смело называет наш разум «схемой для идеи бесконечного разума (tr. 365.).
9) Ср. письмо Канта к Маркусу Герцу от 26. 5. 1789.
10) Ср. Tr. 227: Антиномии разума основаны на этом и могут быть разрешены тем, что» наш рассудок может и должен рассматриваться в двух противоположных отношениях: 1. как абсолют (не ограниченный чувственностью и ее законами); 2. как наш разум, в соответствии с его ограничением. Как мал шаг от этого понимания к трем принципам Фихте в Wissenschaftslehre!
11) Ср. Tr. 13, 419f.; W. 11.; Категории Аристотеля стр. 203f. Попытка новой логики, стр. 377: «Способность познания поражена, то есть она приобретает знания, которые не определены ею априори через ее законы. Вещи-в-себе, следовательно, не вступают здесь в игру».
12) Так еще «Критические исследования о человеческом духе» (1797), страница 154: «Для меня, таким образом, опыт есть… идея, к которой всегда можно приблизиться в воображении, но которой никогда нельзя полностью достичь».
13) Аналогично: Tr. 186f; W. 24.
14) Например: Tr. 47, 336, 390; W. 160; Pr. 18, 50; Новая логика 414.
15) В этом отношении Маймон со своим скептицизмом намного превосходит всех современных толкователей Канта, которые также видят в трансцендентальной субсумме фактическое достижение дедукции и при этом верят в ее убедительность.
16) Элементы Юма, которые Маймон вставляет в этот скептический ход мысли, можно здесь проигнорировать, поскольку они никак не способствовали развитию проблемы. – Интересно, что вызванные теорией относительности Эйнштейна сегодняшние споры о ценности критического идеализма как философской основы современной физики вновь порождают сомнение в синтетических априорных законах природы именно в смысле Маймона, и что на основе этого сомнения высказывается мнение, что только эмпиризм способен философски понять физику. (См. например, MORITZ SCHLICK, Kritizistische oder empiristische Deutung der neuen Physik? Kant-Studien, vol. 26, p. 96f).
17) Наиболее точно выражено в «Новой логике», стр. 414f. ср. tr. 85.
18) Понятие трансцендентального отрицания встречается также у Канта (K. d. r. V., 2-е издание, стр. 602).
19) Скептицизм, выраженный Маймоном по отношению к опыту и его дедукции, в определенном смысле встречается уже у Канта. Ведь, согласно Канту, реальный опыт основан на удачном стечении обстоятельств, о котором можно «судить» как о целесообразном, но не как о обязательно вытекающем из разума и его связи с природой!
LITERATUR: Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, Bd. 1, Tübingen 1921.
Иоганн Генрих Витте
Соломон Маймон
I. Введение
В истории философии Канта, учения, которое более чем когда-либо по праву господствует в наши дни, одно из самых выдающихся мест занимает Соломон Маймон, странный еврейский мыслитель, о жизни которого пойдет речь ниже, а о научном значении которого будет добавлено краткое замечание.