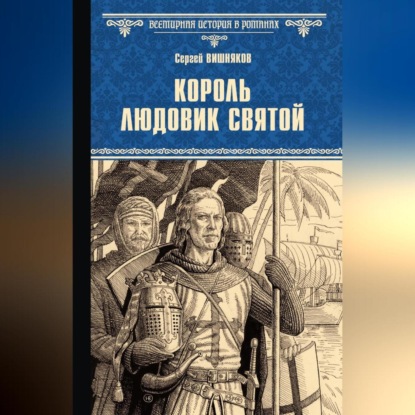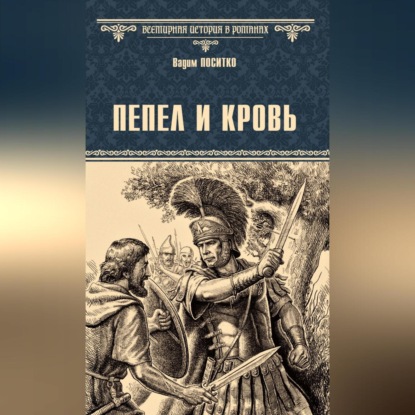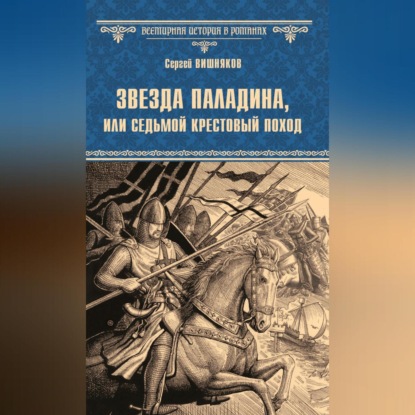Полная версия
Золотой скарабей
Зелья же пить вволю, покуда ноги держат, буде откажут – пить сидя; лежачему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, ибо смерть сия на Руси издревле почетна.
4. Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдать, иначе при пробуждении конфуза не оберешься.
5. Будучи без жены, а то не дай Бог холостым, на прелести дамские взирай не с открытой жадностью, но исподтишка – они и это примечают, не сомневайся. Руками действуй, сильно остерегаясь и только явный знак получив, что оное соизволяется, иначе конфузу на лице будешь носить долго.
6. Без пения нет веселья на Руси, но оное начинают по знаку хозяйскому. В раж не входить, соседа слушать – ревя в одиночку, уподобляешься ослице Валаамовой, музыкальностью и сладкоголосием же, напротив, снискаешь многие похвалы гостей.
7. Помни, сердце дамское на музыку податливое.
Государь всея Москвы П. Демидов».
Мужики качали головами, веря и не веря написанному.
А потом открылись ворота сада со всеми его чудесами. Не раз после гуляний этот ухоженный, обласканный сад превращался в заброшенную землю, с мусором и поломанными диковинными кустами. На сей раз Демидов задумал проучить наглецов и невежд. Призвал к себе Мишку, которому к тому времени уже стукнуло тринадцать лет.
– Отрок! – торжественно проговорил. – Нынче будем исправлять человеческие нравы… Пришло время использовать твое умение недвижно стоять на одной ноге. Будешь ты… купидоном!.. Дам тебе лук и стрелы. А для полного сходства выкрашу тебя бронзовой краской… ну, конечно, не всего, задницу обвяжем красным кумачом, а на спине – вроде как плащ повесим… Смекаешь, о чем речь?
Миша покачал головой, не зная, чего ждать от вельможного господина, – да и догадаешься разве?
– Не микитишь? Объясняю: будет у меня в саду большое гулянье. А ты, как увидишь, кто цветы рвет или мусор бросает, – так пускай стрелу.
– Да ведь стрела больно бьет…
– Небось! Стрелы те не острые. Всё. Иди к красильщику завтрашний день, он тебя покрасит – и укажет место.
Июньский день отгорел, небо развернуло розовые, жемчужные, лиловые крылья заката, и Нескучный сад заполнили москвичи, любопытные до чудачеств Демидова. Из-за деревьев разносилась мелодичная музыка: за кустами скрывались крепостные со скрипочками и флейтами.
Благоухало лето в самой яркой поре. Пестрели невиданные цветы. Большие кусты купены с похожими на ландыши крупными соцветиями соседствовали с каприфолями, из каждого их листа поднимался белый цветок. Ярко пылали золотом солнечники, а за ними – лихнисы, или горицвет. Причудливо извивающиеся дорожки, окруженные цветами, уводили в глубину сада. Можно было видеть лилии, которые распускаются только на закате. А какие ароматы витали в воздухе!
Мало того: то тут, то там возникали странные человеческие фигуры. Глядишь, вдали барышня или мужик, подходишь – фанерная фигура, да так ловко раскрашенная, как настоящая! – а на самом деле «обманка».
В одном из укромных уголков, окруженных цветущей сиренью, на каменном постаменте стоял обнаженный мальчик – истинный купидон. На боку колчан со стрелами, а в руках лук, бронзовое тело под плащиком в полной неподвижности.
Прошло полчаса, час – нога, на которой стоял Миша, онемела, и он незаметно переменил ноги. Тут появился подвыпивший мужик, нехорошо выругался, развалился на земле, подмяв под себя японские маки, которыми так дорожил Демидов. Что делать? Стрелять? А вдруг ранит? Миша нацелился и выпустил стрелу так, чтобы она воткнулась в землю рядом с незадачливым гулякой.
Тот обернулся, протер глаза, огляделся кругом. Встал и подошел к «купидону». Миша замер. Кажется, даже глаза его окаменели: а вот как раскроется всё, да и надает ему тумаков мужик. К счастью, тут явилось спасение, спасение в виде белой мраморной скульптуры, изображающей то ли Марса, то ли Юпитера. То был вымазанный мелом лакей Пронька. Он наклонился, взял ком земли и припустил в подвыпившего гуляку, да еще гаркнул. Мужик сел, осоловело замотал головой. Еще раз оглядел пустую дорожку, да так, на четвереньках, и бросился бежать!
Демидов всем «скульптурам» беломраморным и «купидонам» на другой день поднес по серебряному рублю.
Однако Мишка-купидон сильно захворал после. Оттого ли, что голый столько часов стоял на камне, оттого ли, что краска, покрывавшая тело, дышать не давала. Весь горячий, провалялся он чуть ли не месяц. Барин навещал больного, звал докторов, настой трав целебных из собственных рук пить давал. И жалел о придумке своей, даже каялся в церкви Ризоположения.
Зато, после того как выздоровел отрок, ему еще более барской любви стало перепадать. Еще бы! Никто не умел так ловко вытачивать из деревяшки кораблики, никто картинки лучше не срисовывал, да и умом остер и языком ловок любимец.
К пятнадцати годам у Михаила появились господские манеры: ручки дочерям хозяйским научился целовать, наклоняя при этом голову и бормоча по-французски комплименты. А выглядел старше своих лет.
Как-то на Пасху хозяин опять решил удивить гостей. Из Торжка должен был приехать знатный и умный человек – Николай Александрович Львов – брать архитектурный заказ. Доставлены были устрицы из Парижа, приготовлено мороженое, стол ломился от гусей с яблоками и прочих яств. Гости прогуливались среди роскошных картин, скульптур, под пальмами в зимнем саду. Театр показали – не хуже шереметевского, некая девица стрекозой проскакала по сцене, как бы не касаясь пола.
Лакеи в красных ливреях, подпоясанные веревками, разносили угощения.
– Ну-ка, Васька, поговори с гостями… как умеешь.
Курносый детина зажмуривался:
– Бонжур, мадамы и мусье… Кушайте… Ан, до, труа… аревуар, – выпаливал тот и удалялся.
– Николай Александрович, дорогой гость! – хозяина занимал Львов (был он мелкопоместный дворянин, каких Демидов уважал). – Для тебя я нарочно выписал рожочников. Разве такое в Петербургах увидишь-услышишь? Ты человек культурный, любитель народной музыки, сколько песен, сказывают, уже собрал…
– Собрал, собрал, Прокопий Акинфович, потому что люблю наши простонародные песни… А… хотел я спросить: отчего это так странно одеты лакеи у вашего сиятельства?
– Какое я тебе сиятельство? – недовольно пробурчал барин. – А ежели тебя сие интересует, то могу сказать: оттого мои лакеи таковы, что образ их – это как бы… наша Россия в нынешние времена. Мы все наполовину – русские мужики, а на вторую половину – французы али немцы. Что? Хорошо я удумал? – И он захохотал так, что стены задрожали.
– Однако каковы рожочники? – напомнил Львов.
Демидов хлопнул в ладоши, и из двери вышло не менее десяти мужиков. У каждого в руках рог или рожок, и каждый рог издавал лишь один звук определенной высоты. Львов поразился нежному, мелодичному звучанию. Даже встал, чтобы лучше всех видеть, и на лице его был такой восторг, что стоявший неподалеку Мишка засмотрелся: столь выразительных, искрящихся и умных глаз он еще не видал.
– Браво! Браво! Прокопий Акинфович, ай да молодцы!
– В Петербурге разве такое услышите? – вел свое Демидов. – Петербург – там все пиликают на скрипочках да на этих… как их, виолончелях. А у нас на Москве – все наособинку! У нас сад – так конца ему нет, не то что ваш Летний, насквозь просвечивает, мраморов-то боле, чем людей… Что это за гулянье? Москва – вроде как тайга… али океан… будто не один город, а много. А столица ваша? Фуй! Одна Нева только и хороша.
Прокопий Акинфович прав был: что за город Петербург в сравнении с Москвой? Вытянулся по ранжиру, улицы под нумерами, ни тупиков, ни садов, в которых заблудиться можно. А нравы? В Москве каждый вельможа себе господин, граф-государь (вдали-то от императорского двора). Важно ему не только порядок наблюдать, но и удивить гостя; своих подданных, крепостных и дворовых поразить – тоже радость. Ему надо, чтобы любили его, за это он на любой кураж, на самый дорогой подарок готов пойти. Иной вельможа ни за что не отдаст и за великие деньги крепостного своего, зато подойди к нему в удачный час, подари бочонок устриц – и получай вольную. Оттого-то граф Алексей Орлов жаловался государыне Екатерине: «Москва и так была сброд самодовольных людей, но по крайней мере род некоторого порядка сохраняла, а теперь все вышло из своего положения».
Вот и Демидов «выходил из своего положения».
Вдруг, осененный некой мыслью, он поманил к себе Михаила, схватил его за голову и велел пасть на колени перед Львовым.
– Что вы, что вы! – досадливо повел плечом Львов.
– Становись! И расти до этого человека. Николай Александрович, батюшка, поучи моего Мишку! Он парень ловкий, сообразительный… А главное – страсть как рисовать любит! Ему бы там, в Петербурге, преподать несколько уроков… К Левицкому сводить. Пусть поучится… Как, Мишка, хочешь в Петербург?
Парень вытаращил глаза – как не хотеть?! Он уже смекнул, что Львов этот – человек особенный.
– Благодарю! – выпалил. – Поеду! Поглядеть на столицу – мечтание мое.
– А какая еще у тебя мечта? – склонив голову, мягко спросил Львов.
– Рисовать! Глядеть! Путешествовать!
– Вот и славно, – улыбнулся гость. – Нынче я в Торжок еду, а через месяц-два буду в столице. Приезжай. Найдешь меня в доме либо Бакунина, либо Соймонова…
Месяца через два, провожая Михаила, Демидов уединился с ним в углу и напутствовал его совсем в другом деле:
– Посылаю я тебя не просто так… Условие есть: поучишься – напиши портрет одного человека. Он из царского двора… Зовут – Никита Иванович Панин, важный человек у императрицы. Так вот, надобен мне его портрет, и всенепременно. Дам тебе немного деньжат, поживешь там – и обратно. Понял?.. Но и ты гроши копи, из них рубли вырастают. Знаешь пословицу: «Деньги и мыши исчезают незаметно»?
Васильевский остров. Мошенники
В Петербурге и впрямь все делалось по ранжиру – оттого Демидов, верный слову своему, никогда в ту столицу не езживал.
Васильевский остров разделен на прямые, как чертеж, улицы. Вдоль Невы – бывший Меншиков дворец, Кунсткамера, Сухопутный шляхетский корпус, а домá – в одинаковом отсчете этажей, да все каменные, еще и разрисованные архитекторами. Снаружи – красота, а заглянешь во двор – беспутица, да еще и мрачность. Лестницы широкие, пологие, а кто победнéе, тому шагать и шагать вверх по тем лестницам в глубине двора.
По ранжиру и люди живут именитые. Ежели ты тайный советник или генерал – можешь не замечать мелкого служащего. И никому не придет в голову выдавать свою дочь за мелкопоместного дворянина. Однако, как говорится, если уж лошадь тайного советника – чуть ли не сам тайный советник, то что говорить об их избалованных, самодовольных дочерях и сыновьях, приближенных? Сам граф Алексей Орлов, стараниями которого возведена на престол Екатерина, изменял, говорят, августейшей возлюбленной…
Любовными историями авантюрными полон туманно-призрачный город Петербург, словно созданный для противозаконных действий. Чего стоят одни его приливы, эти набегающие с моря валы, затопляющие набережные и дома? Или его светлые белые ночи, когда одни жаждут любви, а другие – смерти? Кажется: к чему долго жить? Может, и впрямь прав человек, что сказал: «Худо умереть рано, а иногда и того хуже жить запоздавши»?
Пииты еще не научились языку любви, они косноязычно и мучительно ищут слова, но… попадают в объятия первой встречной девицы невысокого положения и молча несут затем свое брачное бремя.
Мог ли думать Демидов, да и сам Михаил, что подобную участь и ему уготовит Петербург? Юноше надобно было снять комнату, хотелось бы поближе к Академии художеств, но случилось так, что молодое дарование, озабоченное, казалось, лишь законами художеств, вдруг очутилось в теплых руках полной дамочки. Хотя столь ранние амуры ему ни к чему, хотя никакого сверхъестественного фатума, о котором читал, при том не было, – просто постучал на Васильевском острове в первые попавшиеся меблированные комнаты. Дверь открыла служанка и проводила к хозяйке, проговорив:
– Зовут ее Эмма Карловна, сама из себя прямо как есть генеральша.
Эмма Карловна, однако, оказалась хорошенькой дамочкой в платье с оборками, открытой грудью и золотой цепочкой на шее. А волосы! – локоны и кудри, что тебе волны на Неве. И главное – столь любезна, приветлива и говорлива, что Миша с его московским воспитанием сперва растерялся, а потом и глаз не мог отвести от хозяйки. Комнату она ему дала светлую, чистую, к тому же с видом на Академию художеств.
Мало тех удач. Словоохотливая Эмма выведала, чему желает молодой человек обучаться, каким художествам, всплеснула ручками и воскликнула:
– Сам Бог привел тебя ко мне! Да знаешь ли ты, студиозус, что в доме моем обитает настоящий художник! Уговорю его, вот клянусь, уговорю – и станет он тебя учить. Экий ты славный малый! – Она подошла вплотную и потрепала его по волосам. – Волосы у тебя мягкие, должно и характер мягкий…
Он смутился, порозовел: про характер ему еще было неведомо, только знал, что внутри порой что-то загоралось и он еле с собой справлялся. Да и то: разве в Воспитательном доме или у Демидова позволительно характер проявлять?
Вечером хозяйка познакомила Мишу с немцем-гравером Лохманом, который делал и миниатюры, и гравюры и брал заказы. Лицо его показалось слегка плутоватым, нос крючком, подбородок – тоже, а на голове волос седых – кот наплакал. Однако как не порадоваться такому случаю? Немец достал несколько миниатюр, заметил:
– Много теперь в Пэтерсбурге флиятельных щеловеков, и фсе вольят иметь миниатюр… Будешь заработать!.. А за щтудирен пуду я брать с тебя мало-мало деньги. – И почему-то добавил: – Ты самого Демидова знаешь?
Показал тонкие кисточки, краски, книгу «Основательное и ясное наставление в миниатюрной живописи, посредством которого можно весьма легко и без учителя обучиться». Миша, прочтя название, заметил: может, и он без учителя обучится? Немец его упредил:
– Не надо верить, что есть написан… Глюпость! Я буду учить!
Дни стояли в Петербурге прохладные. Ветер дул не переставая, к тому же дождь, и Миша неотрывно сидел дома, увлекшись миниатюрами. Немец приносил портреты важных персон, юноша подготавливал рисунки, а потом немец наносил краски тонкими кисточками на прямоугольные либо овальные плашки.
Эмма Карловна садилась рядышком и глядела. То на рисунок, то на смуглое круглое лицо с ямочкой на подбородке, и, поднимая глаза, Миша встречал ее взгляд… Она поила его чаем, старательно дула на блюдце, шея и грудь ее розовели, а щеки лоснились от удовольствия.
Миновало дней десять, прежде чем Миша, оторвавшись от работ, наконец решил отправиться на поиски Львова – тот же обещал вернуться. Набравшись твердости (знал, что Эмма будет его удерживать), сухо проговорил:
– Я нынче припозднюсь…
– Да? Куда же путь держишь?
– К одному знакомому.
– Ну ладно, так и быть, поскучаю вечеро-о-ок… – протянула она, кокетливо глядя на него.
– А не знаете ли вы, где обитает художник Левицкий?
Внезапно лицо Эммы подобралось, замкнулось, и она недовольно бросила:
– Откуда мне знать? Много тут художников ходит. Академия, студенты…
Да, Миша уже не раз видел выходящих от немца молодых людей: неужто и они на него работают? Или тоже учатся?
…Если бы знать, что ждет его у Львова, то никогда бы не сидел он столько времени возле дамских рюшечек. Отроду таких вечеров не выпадало ему.
Дом Бакуниных, оказалось, находился тоже на Васильевском острове. Но какие очаровательные девушки там обитали! Пятеро сестер Дьяковых были наподобие цветков, к которым слетаются пчелы; их мать приходилась сестрой жене сенатора Бакунина.
Горел камин. Уютом веяло от кресел вокруг овального стола, звучали клавикорды, а девушки русалочьими голосами пели «Стонет сизый голубочек» и «Выйду ль я на реченьку».
Сам Николай Александрович Львов – как огонек, он и тут и там, и во всем участвует, и непрерывно перемещается. Вот разыгрывает сценку – басню о том, как глупец, изучавший за границей метафизическую философию, падает в яму и вместо того, чтобы выбираться из нее, предается размышлениям:
Отец с веревкой прибежал.«Вот, – говорит, – тебе веревка, ухватись,Я потащу тебя; да крепко же держись,Не оборвись!..»«Нет, погоди, скажи мне наперед:Веревка – вещь какого рода?»А вот уже Львов с другим молодым человеком – он некрасив и неловок, зовут Иван Иванович Хемницер – завел ученый разговор про французских философов, про театр. Поминали имена и слова, которых никогда не слыхал Михаил: Мольер, Расин, опера «Армида». Вдруг, загоревшись, Львов схватил руку юного гостя:
– Послушай, Михаил, ведь ты на все мастак! Придумай: как изобразить на сцене гром и молнию?.. А еще – пожар! Мы будем устраивать свой театр!
– А что? – не растерялся Миша. – Мы делывали так: возьмешь железный лист и колотишь по нему, а из темноты – горящая пакля.
– Это не опасно? Наша героиня в огне пожара бросается в объятия любимого человека, а в это время гром и молния!..
Обсуждение будущего спектакля напоминало жужжанье вернувшегося к улью роя пчел…
Возвращался назад Михаил в том состоянии духа, какое бывает, когда в бане напаришься, а потом чаю с малиновым вареньем выпьешь. С неба шел таинственный свет, особое фантастическое сияние, а там, где море, пылали горы голубого и розового жемчуга – отблески заката. Впервые видел Миша белую ночь, торжественную, незакатную. И удивлялся самому великому художнику – Творцу Небесному.
В голове еще бродили строчки, читанные Львовым:
Вкушаю я приятность мираИ муз щастливейший покой.Воспой, воспой, любезна лира…Далее он не помнил, но к дому приближался счастливейшим из смертных. Встретила его Эмма, и от полноты чувств он расцеловал ее. Она прильнула к нему, и… наш Мигель, наделенный горячей португальской кровью, оказался в ее горячих объятиях.
Было недурно и, может быть, даже прекрасно, если бы ночью не слышались какие-то странные, пронзительные звуки. Похоже было на скрипку, но звуки – зловещие, мрачные, дикие. Они и на другой день наплывали, скрежетали в его памяти.
Уж не сам ли Лохман играл на той скрипке? Ходил он злой, всклокоченный. Не желал пить кофий, не умывался. Потом ткнул пальцем в Мишину грудь и, путая слова, что-то пробормотал. Понятны были только два слова: «любовь» и «кашель». Что он хотел сказать? Что любовь, как кашель, не скроешь? Дикое сравнение?..
Или: что любовь – как детский коклюш и необходима прививка? Откуда все же доносились те скрежещущие звуки?
…Как-то, возвращаясь от новых друзей, Миша остановился близ своего дома на Васильевском острове. Из-за угла донесся знакомый скрипучий голос – и второй, еще более неприятный. Лохман в черном капюшоне? И второй человек, пониже, тоже в капюшоне.
О чем они говорят на дурном русском языке? Миша вжался в стену и замер, прислушиваясь.
Второй голос глухо и нудно уверял, что в Петербурге и Москве много аристократов, которые ничуть не дорожат богатствами, после праздничного ужина в отходах можно найти не только серебряную посуду, но и золото, – а золото – украшения, монеты, посуду надо всеми способами всюду добывать… Он напористо вбивал в башку Лохмана, что их маленький народ погибает и что спасти его может только золото!
– Ты понял, Рокано?
«Но почему не Лохман?» – подумал Михаил.
– Твои ученики рисуют миниатюры, а за миниатюры господа могут платить золотом, ты понял? Твой квартирант живет у богача Демидова?
– О, – отвечал Лохман, – то есть простой щеловек, демидовский дурень, – он у меня в руках!
– Зер гут. Теперь – Строганов. Я пойду к нему форейтором… а Эмма хлопотать, так?
Михаил крепче вжался в стену. Вместе с тем он понимал, что оставаться здесь опасно, и на цыпочках поспешил к низенькому входу в дом. Эмма Карловна чуть не бросилась к нему на шею, и он не без усилия отстранил ее.
Вскоре вошел Лохман. Пристально, ревниво и подозрительно взглянул на молодого квартиранта.
Андрей же тем временем все еще ходил-бродил по Москве, дожидаясь появления Матвея Казакова. Радовала мысль быть при известном архитекторе, но как? Андрея-то тянуло более к портретам, пусть они неумелые, ремесленные, однако любопытно изучать характер и то, как он отражается в личности. Он сожалел, что не успел там, у Спасских ворот, зарисовать господина в белом парике – кажется, Мусин-Пушкин? Какое чистое, светлое, доброе и умное лицо!
А готовиться надо к прямым линиям, к чертежам – это надобно Казакову. Постепенно, бродя по улочкам и закоулкам Москвы, Андрей и сам не заметил, что некоторые дома он сравнивает с человеческим обликом, с характером… Вот приземистый, несколько косолапый дом, – чем не повар в «Славянском базаре»… А тот, у Арбата, – словно важный, дородный барин, да хоть Головин, которого они видали в Новоспасском. Есть и дома-аристократы: худощавые, заносчивые, молчаливые…
Дошел он и до Воспитательного дома богача Демидова – это ж целый дворец, правда, весьма скупо украшенный. Должно быть, такие строят в Европах.
Возле того великого дома на берегу реки уральский новичок остановился – уж очень хорош был закат! – и акварелями запечатлел текущую реку с закатными отражениями. К нему подошел какой-то человек, долго всматривался в акварель и заметил:
– Недурно, недурно, вьюноша. Вот только не кажется ли вам, что деревья, отражаемые в воде, слишком светлого тона? Я бы сделал их потемнее. Как имя ваше?
– Андрей.
– Андрэ? Славное имя. Подучиться бы вам надобно.
– А я буду, буду! Сперва – у Казакова, а потом в Петербурге, там мой опекун, его сиятельство граф Строганов.
– Вот как? Дорогой друг, так найдите дом Соймонова – я обитаю там – и мы продолжим знакомство. Мое имя Львов.
Да, человека того звали Николаем Александровичем Львовым, и с ним-то уже как раз познакомился второй герой нашего повествования – Михаил Богданов.
Не терпелось Андрею взяться за настоящую работу, учиться у архитектора, но того все не было в старом Путевом дворце. Наконец он получил депешу от его сиятельства через его родственника, обитавшего в Братцево. Граф писал, чтобы «дворовый его, отрок Андрей Никифоров, немедля явился в Петербург и показал свои рисунки».
Не было ни в Петербурге, ни в Москве человека, который бы не слышал имя этого знатного вельможи.
Граф Алексей Сергеевич Строганов, сын барона Сергея Григорьевича и Софии Кирилловны, рожденной Нарышкиной, действительный тайный советник и президент Академии художеств, учился за границей. Два года прожил в Женеве, посещая лекции известных профессоров, а затем путешествовал по Италии, где знакомился с художественными сокровищами и начал собирать картины великих мастеров. Поселившись в Париже, Строганов в продолжение двух лет изучал химию, физику и металлургию, посещал фабрики и заводы. В 1760 году, присутствуя при бракосочетании эрцгерцога Иосифа в Вене, Строганов стал графом Священной Римской империи. Прожив 6 лет, супруги Строгановы разошлись: оба не чувствовали себя счастливыми. Скоро Строганов женился вторично, на княжне Екатерине Петровне Трубецкой, которая – увы! – влюбилась в Корсакова.
Андрей Никифоров явился в Петербург, граф придирчиво рассмотрел его рисунки, акварели и, похоже, остался доволен. Однако одобрения не выказал, а велел отвести его в Академию художеств и посещать занятия по гипсам, рисунку, акварели, темпере, а также изучать основы архитектуры. Потом спросил:
– Фамилия твоя? Никифоров? Сын Пелагеи?.. Отныне будешь – Воронихин, согласен?
– Ясное дело – согласен, ваше сиятельство.
Андрей молча поклонился и спиной попятился к двери.
– Жить будешь в моем флигеле, – услышал вдогонку.
Ночью той Андрею не спалось: что же это? Неужто не врали, дразня его, усольские парни, мол, незаконный он сын графа Строганова? Но которого? Уж не этого ли? – ведь там есть и братья… Нет, не след думать про то… опекун его сиятельство – вот и славно!
И всякий день теперь посещал Академию, приглядывался к скульптурам, картинам, выставкам.
А граф написал несколько слов на белой-белой бумаге, сказав:
– Я даю тебе записку к Левицкому – это наш отменный живописец, – он поглядит на твои опусы, даст несколько уроков, а там посмотрим, кем ты станешь.
Строганов был представителен, барственно высокомерен, но вместе с тем в его худощавой фигуре читалось что-то нервное – какое-то беспокойство. Андрею же (отныне Воронихину) краткая та беседа добавила некой крепости – при таком опекуне доступны начинающему многие познания. А ежели его сиятельство (как болтали в Усолье) и в самом деле его отец, ну тогда…
В Петербурге Воронихин пробыл не более месяца, но успел увидать и портреты руки того самого Левицкого, и приоделся по-столичному, и даже научился закручивать свои отросшие волосы на папильотки и ходил с кудрявой головой…
Однако не миновало и двух месяцев, как граф принял новое решение: быть Андрею не живописцем, а архитектором и немедля отправляться опять же в Москву, к зодчему Матвею Казакову.