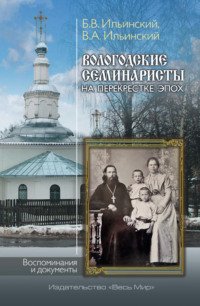Полная версия
На самом краю леса
Чужие не могли пробраться через забор. Острыми кольями отгоняли их Амл и его дети. И ворота не смогли разбить Чужие. Крепкими были ворота, которые построил Амл, без его разрешения в стороны не уходили они. Тогда Чужие развели у ворот костер, траву и сучья притащили они с опушки и стали их жечь. А еще – окунали в костер свои стрелы и кидали их во двор Амла. Камни летели из-за забора, но не отступали Чужие. Сильнее разгорелся огонь, захватывала небо алчная чернота, водой дрожал воздух над домом. Тогда распахнулись ворота, в их проеме появился Амл. Дети его были рядом, справа и слева стояли они. Отодвинулись створки ворот, открыла стена выщербленный пламенем рот. Колья и острые камни держали в руках Амл и его дети, и шли они через дым. Бросились на них чужие с поднятыми палками, но уже на спине одного из них сидел Одр. Горло резал ему Одр, как пойманному оленю. Мокрой становилась трава.
Трое Чужих напали на Амла и его детей, а четвертый, самый сильный, повернулся к Одру и хотел его ударить. Бедра и скулы, как у Увла, были у Одра. Чужой целил в Одра. Свистнуло небо, когда опускались его плечи. Быстр был Одр, как Офа, и увернулся от руки Чужого. Поскользнулся Чужой, но крепко стоял Одр. Темно было его лицо. Бросил Одр копье и ранил Чужого в глаз. Одр был могучий охотник. «И-я-я-а-ху!» – закричал Одр и еще одним ударом сломал дубину Чужого и голову его проломил Одр. Словно яйцо куропатки, раскрылась голова. Так сражался Одр. Он был великий воин.
С тремя Чужими дрались Амл и его сыновья. Они не умели сражаться так хорошо, как Одр. Мотыги и сверла умели держать они, но не палки с раздвоенными концами и острыми камнями, прикрученными звериными жилами и вязкой травой. Рядом стояли они, во все стороны отбивались они. Ранили Чужих Амл и его сыновья, но не очень сильно. Хуже пришлось им самим, много хуже. Чужие били их острыми палками по рукам и ногам. Чужие побеждали. В Ирла целили Чужие, прямо в живот ему целили они, сразу двое, но закрыл его своим телом Амл. Ирла все любили.
Сзади на Чужих прыгнул Одр. Он был великий воин. Три удара нанес он и только один раз промахнулся. Все Чужие умерли, мокрой траву сделали они. Только один лежал рядом, гулко дышал и ждал, когда его убьют. Амл тоже умер, когда заслонил Ирла. Одр и Бадр хотели надрезать шею последнему Чужому, до конца оросить траву хотели они, но Ирл не разрешил им порвать колотившуюся жилу. Это был не тот Чужой, который убил Амла. Ирл связал Чужого веревками, надел ему на голову мешок, и бросил в пристройку. Одр и Бадр были недовольны, но ничего не сделали. Ирла все любили.
Амла закопали за пристройкой, рядом с Увлом и Офой. Лучшую мотыгу положили Одр, Бадр и Ирл вместе с Амлом, много мешков и плошек. Так много добра положили они, что на том месте, где остался Амл, появился небольшой холм. Его было хорошо видно изо всех домов, от пристройки и от ворот. Костер разожгли Одр, Бадр и Ирл, ели большую куропатку, пили желтую воду, молчали. Так прошла ночь. Женщины в доме сидели и отдыхали – все палки Чужих подобрали они и в дом унесли. Все копья их и ожерелья их. Ближе к лесу оттащили женщины тела – пусть удобно будет птицам, пусть вкусно будет зверям. Не пугал женщин лес: знали они, что Чужие все умерли. Все, все Чужие умерли.
Из последнего Чужого сделали раба, братья вместе разложили его во дворе и нанесли ему рану, чтобы он был полезен не себе, а другим. Бадр отдал раба Ирлу. Новый раб жил в пристройке и хорошо работал. На шее у него была веревка, и ему давали много костей. Раб был рад, что его не убили. Ирл теперь жил один в доме Амла. У его женщины, Энны, был большой живот. И у женщины Бадра, Илты, был большой живот. Лето стояло липкое и жаркое, и пели в траве невидимые голоса. Обе женщины радовались: у каждой был свой дом, и у каждой будут дети. Они не могли работать.
Новый раб помогал Бадру и Ирлу в поле, но дома помогал только Энне, а не Илте. Ведь Бадр отдал раба Ирлу. У Илты был большой живот, и она не всегда могла готовить пищу. Бадр думал: мне нужен еще один раб, для моей женщины. Чужой, ненужный себе, полезный другим. Бадр не знал, как попросить Одра, чтобы тот раздобыл ему раба. Бадр придумал, что на людей можно поставить ловушки, совсем как на зверей. Вдоль высокой травы, на самом краю леса. И в самом лесу, по дороге на водопой. Легко это. Без воды не может никто – ни дерево, ни птица, ни человек. Ирл бы мог попросить Одра, думал Бадр. Ирла все любили.
Ирл научил женщин стричь коз, они набивали мешки шерстью, и никому из них не было холодно в домах из мокрой земли, даже зимой. Бадр и Ирл были довольны. Они не боялись, что из леса к ним придут Чужие. В лесу жил Одр. Он был великий воин и могучий охотник. Иногда Одр приносил на край поля туши убитых животных. Старое дерево в саду умерло, и Бадр с Ирлом сделали из него стойку, на которую Одр мог класть туши. В землю вколотили они деревянные ноги и поставили на них твердый щит. Чтобы маленькие полевые зверьки не испортили за ночь тела животного, которое убил Одр. Бадр и Ирл оставляли Одру хлеб, молоко и куропачьи яйца, даже веревки и плошки. На опушке, на самом краю леса. Они совсем не боялись. Они починили забор. Он был очень крепкий. Раб помогал им чинить забор.
Так было всегда, так должно было быть всегда. Ничего не менялось, ничего не могло измениться. Никто не помнил, как это началось, никто не задумывался, кем так было заведено. В поле и в лесу, и далеко, у покойной реки, на зыбучем песке жили люди. Камни держали они в руках и твердые палки. Шуршал ветками лес, пела в поле трава.
Не хватало воды на два поля, на огород, на деревья с кислыми плодами. Новая канава была нужна, в разные стороны поворачивала она. Тяжело жить без питья – и траве, и человеку. Дерево стойче других, но не может и оно без воды. К самой стене, все ближе к деревьям тянулась канава. Над воротами с кольев смотрели на лес человеческие черепа – головы Чужих висели там, охраняли они лесной путь. И никому больше не было страшно.
2008–2011
Обратный путь
Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил…
Лук. 1:3Не успел отступник договорить, как на него бросились со всех сторон. Он покачнулся и исчез под градом ударов. «Затопчут…» – пронеслось у меня в голове. Это поняли и восседавшие на помосте священники – я услышал повелительные возгласы, увидел властно вознесенный остроконечный жезл, на мгновение поймавший луч предзакатного солнца. Отраженный свет пронзительно брызнул во все стороны, как от бронзового зеркала за очагом.
Приказания возымели действие – набежавшая волна замерла, как будто в раздумье, потом дрогнула и нехотя покатила в обратную сторону. Пестрые людские пятна, на мгновение слившиеся в жаркой дымке, медленно расползались, словно выплывали из потерявшего силу водоворота. Яростный рев перешел в недовольное рычание. Толпа опомнилась. Осквернять святое место было нельзя. Все знали: изгнание жизни из тела не должно совершаться в храмовых пределах, поблизости от алтаря Сущего. Только идолопоклонники вносят в свои капища дух человеческой смерти. Но что дальше? Возбужденные ряды алчно рокотали. Неужели богохульник избегнет наказания? Его отдадут страже? Будет расследование? Опрос свидетелей? Пустое – власти сначала проволынят, а потом втихую помилуют отщепенца – знаем мы, этим властям нет никакого дела до Божьих заветов. А здесь все ясно: он сам во всем признался – лжепророчествовал в виду народа – и жизни не заслуживает. Но как быть? Мои соседи переговаривались, никто ничего не понимал.
Мало-помалу движение в толпе возобновилось и приобрело направление. Воздетые руки рубили воздух, копьевидные бороды вздрагивали с каждым шагом – бурлящее течение разъяренных лиц устремилось прямо на нас. Я повернулся боком, расставил ступни, чтобы удержаться на месте, и вскоре увидел окровавленного отступника. Руки его были связаны, он шел, шатаясь и зачерпывая пыль сандалиями, в окружении группы разгоряченных ревнителей, твердо глядевших перед собой. Конечно, как же я сразу не понял: за нашими спинами находились ворота, ведущие в Долину Казни. Мы расступились. Я увидел, что многие уже выбегают за городскую ограду – спешат запастись камнями.
Вместе со всеми я двинулся за обреченным. Шум голосов сменился равномерным скрипом щебенки, терзаемой сотнями сандалий. Люди молчали и как будто смотрели в одну-единственную точку. Споры прекратились – все было решено. Толпа понемногу вытекала из города и сдержанно гудящим ручьем стремилась к Камню Позора. В центре образовавшейся процессии шагал отступник, по бокам суровой стеной шли ревнители. Я старался держаться поближе к их спинам, даже не знаю, почему. Тропа круто уходила вниз, кто-то споткнулся, упал, ему помогли подняться. Я осторожно огляделся по сторонам – без проявления любопытства, не вертя головой. Многих из идущих рядом я знал, были среди них и мои нынешние соученики, толкователи, всех возрастов и состояний. Мы обменялись сдержанными приветствиями. Это помогло мне избавиться от странной тяжести, внезапно набухшей каменным кулаком и перекатывавшейся в самой глубине груди. Я с облегчением начал дышать носом, как советуют великие врачи древности, медленно, протяжно, и окончательно утвердился в правильности происходящего.
Да могло ли быть иначе? Все делалось в полном соответствии с написанным. Я продолжал оглядываться и с появлением каждого знакомого лица испытывал все большее облегчение. Наконец меня охватило чувство сопричастности к важному делу, хотя я бы не смог объяснить, какому.
Внезапно восторг узнавания пропал. Что-то по-прежнему мешало мне, давило на плечи. Конечно, я понимал, что молчаливый приговор толпы справедлив, но радости не ощущал. Но ведь и это правильно, сказал я себе: нами ведет грустная необходимость, а не жажда крови, мы исполняем веление Закона, а не алчем чужих мучений, не кадим красногубым идолам. Это не жертва, а наказание. Мы не варвары, а люди единого Бога, нет для нас закона выше небесного. Тяжек долг праведного, узка дорога верного. Сбиться, уйти далеко за обочину – значит вместе с истиной предать и Того, Кто нам ее заповедал. Даже колебание преступно, и терние на пути – не препятствие, а награда. Отступить – все равно, что отречься. Потому что за шагом на месте следует шаг назад, а за ним – шаг в сторону. В пропасть.
Я пытался молиться за спасение души богохульника, но никак не мог закончить хотя бы одну фразу. Откуда-то выплывало: «Вразуми… вразуми…», – но дальше чернела пустота. Твердо заученные слова вдруг пропали в темнице потерянной памяти. Наверно, на меня подействовала жара. Я скосил глаза и вдруг увидел того – и сразу себе в этом признался, – кого более других хотел бы встретить посреди мрачно уверенной толпы. Я позволил своему взгляду ненадолго задержаться на крепко сбитой, приземистой фигуре и удостовериться в происходящем. Странно, что до сих пор я его не заметил. Может, он поначалу шел сзади, прямо у меня за спиной? Я снова испытал облегчение. Вряд ли здесь мог находиться кто-то, кого бы я лучше и дольше знал, в чьей ревности и следовании долгу я был убежден много более чем в своей. Его присутствие внушало уверенность. Он не обращал на меня внимания, шагал рядом и, подобно остальным, смотрел прямо перед собой. На запыленном лице проявилась сеть мелких морщин, сходившихся к углам глаз и падавших со лба на переносицу. Потные волосы кучерявились по краям проступавшей лысины, холмистая борода спуталась больше обычного. Растрескавшиеся губы беззвучно шевелились. Я подумал, что он испытывает сходные чувства, молится за просветление отступника, и позавидовал – он-то никаких слов не забыл. Спустя мгновение я в который раз остро понял: мне за ним никогда не угнаться. И впервые осенила мысль, беспричинная и тревожная: он отличен не от меня одного, но от всех нас. Только мог ли я представить, что скрывалось за правотой этого неожиданного озарения?
Путь оказался недолог – солнце сдвинулось лишь самую малость. Тропа изогнулась вокруг зубчатого края скалы, и вывела нас к месту казни. Все теснились и тянули шеи, не желая ничего упустить из виду. Вдруг возникло непредвиденное замешательство: осужденного надо было возвести на Камень Позора. Он не сопротивлялся, но его ослабевшие ноги подкашивались и соскальзывали с гладких закругленных ступеней, отполированных ветром и пустынным песком. Двое ревнителей тянули смертника сверху, еще один подталкивал в спину. Они неумело торопились, но дело не шло. Я пожалел, что с нами нет стражников. Вдруг кто-то из ревнителей оступился, и все они, ругаясь и призывая проклятия на голову приговоренного, скатились вниз. Поднялись на ноги, мрачно оглянулись и начали сызнова. Ими руководила какая-то еще вязкая уверенность, тяжелевшая на глазах и растекавшаяся по сторонам. Теперь они решили связать грешника и забросить его наверх, словно тюк с одеждой. Почему-то никто не вызывался им помочь, люди молча заполняли пространство вокруг Камня, стараясь не оказаться слишком далеко от происходящего, но и не подойти слишком близко к обреченному и его невольным носильщикам. Трое избранных были уже не рады, что взялись за исполнение общей воли – они запыхались и побагровели, крупные капли пота текли по их раздувшимся щекам. Я обратил внимание на виноватое выражение лица отступника – он как будто не хотел быть причиной излишних забот.
Устав от этого зрелища, я, наконец, решился завести разговор с тем, кто стоял рядом со мной, повернулся и, пытаясь поймать его взгляд, опять не к месту проговорил: «Вразуми…» Здесь толпа подалась назад и недовольно загудела. Нас притиснуло друг к другу, рвануло, но мы удержались на ногах, потом, не сговариваясь, сделали шаг вперед и оказались совсем близко от раздосадованных очередной неудачей ревнителей. «Посторожите-ка!» – проронил один из них и, не дожидаясь ответа, скинул плащ. Мы молча кивнули. Увидев это, его товарищи тоже сбросили верхнюю одежду и снова взялись за дело. Вдруг мелькнуло: ведь отступник старается им помочь, он хочет поскорее забраться на Камень Позора и покончить с мучениями – своими и нашими. Эта мысль была мне неприятна. Я опять скосил глаза, а потом, переступив с ноги на ногу, стал так, чтобы лучше видеть своего соседа, по-прежнему не обменявшегося со мной ни единым словом. Губы его все так же шевелились. Мне казалось, я мог разобрать слово «воистину», и опять ему позавидовал – нет, в отличие от меня, он не испытывал никаких сомнений. Впрочем, едва ли можно было ожидать иного: подобно факелоносцу, он всегда летел впереди, мне оставалось только догонять.
Уже много лет я шел по его следам и все время опаздывал: раскрывал тайны, им давно отброшенные, взбирался на высоты, им обозначенные и покинутые. Никогда, никогда я не мог понять его сегодняшнего, а только вчерашнего.
Еще в отрочестве он часто походя объяснял мне какую-нибудь малость, казавшуюся тугим клубком парадоксальной невнятицы, для него несущественную, а для меня – темную и тревожную. Не раз я, подобно остальным сверстникам, благодарил его за науку, за разоблачение мнимой путаницы, смутившей мои мысли, а он непринужденно кивал в ответ и несся дальше. Но никогда, никогда мы с ним не говорили на равных. Вот почему так сладостно было стоять с ним рядом, быть там же, где он, в самых первых рядах верных и избранных.
Такого еще не случалось, да и не могло случиться. Несмотря на все мои стремления, после достижения зрелости мы редко сталкивались, разве только на собраниях толкователей. Он приветственно складывал руки, иногда обменивался со мной несколькими фразами, но не более. То же произошло, когда мы впервые встретились здесь, далеко от нашей общей родины. Он нимало не удивился, увидев меня, спросил о том, о сем, потом его отвлекли двое спорящих ревнителей, подошедших за советом, еще мгновенье – и он пошел вместе с ними, сразу смешавшись с группой возбужденно жестикулировавших молодых людей. Я успел заметить, что его внимательно слушали и не сразу перебивали. Видно было, что даже среди здешних – самых начитанных и ревностных блюстителей Слова – он является далеко не последним. Стало стыдно за собственную ущербность – ведь тонкую сеть моих познаний по-прежнему пятнали мириады пробелов, очевидных первому встречному. Как и раньше, я был обречен следить за ним со стороны. Но не скрою, иногда в собраниях меня охватывала тайная гордость: вот каких вершин духа сумел достигнуть мой давний товарищ!
Все началось еще в нашем родном городе, когда мы только поступили в учение. Да, конечно, мне есть оправдание, простое и очевидное, к которому я слишком часто униженно прибегал, начиная с самого детства: он ведь родился на два года раньше меня, он всегда был взрослее. Почему старший не может опережать в учении младшего? – утешался я. Чем дурно такое превосходство, определенное изначально? Думать иначе – не нарушить ли ход вещей? Желать обратного – не оказаться ли в плену гордыни? Я хорошо помню наши школьные часы: не раз он прежде других отвечал учителю Закона, ладны были в его устах священные слова, легко плыли они, одно за другим. И в другие дни, на занятиях у ритора и грамматика столь же плавно выскальзывали из его губ, соединялись в прочную цепь посылки и доводы совсем иного, совершенно земного, даже заведомо приниженного свойства… А я все так же сидел среди других учеников и мучительно мечтал о том, что когда-нибудь смогу, подобно ему, встать перед всеми и превзойти равных: отличиться красотой речи, глубиной знаний и остротой суждений.
Верно – ступени мудрости не терпят прыжков, но ведь годы детского учения давно прошли. Древняя загадка изобретательного остроумца обещала хотя бы сокращение расстояния между преследователем и впередсмотрящим, но не единожды мне приходило в голову, что зазор между нами неподвластен времени и навсегда останется неизменным. Кто солгал, что с возрастом различия в знаниях должны стираться? И тогда, у Камня Позора, и теперь, выйдя из дома, где мы, возможно, говорили в последний раз в жизни, я чувствую то же, что и много лет назад, когда никто, кроме учителя, не мог понять точности его ответов и хода цепких рассуждений. А мог ли, подумал я, угнаться за ним и сам почтенный наставник, всё ли улавливали в беге его мыслей седобородые проводники по дорогам мудрости, казавшиеся нам кладезями сокровенных тайн? Не скрывалось ли за ритмичными кивками их благообразных голов точно такое же порожнее непонимание?
Отступника, наконец, взволокли на камень. На мгновение он замер у щербатого края, потом – толчок, и тело, неуклюже взмахнув крыльями окровавленных тряпок, ринулось вниз. Раздался глухой удар. Здесь мой давний соученик вдруг повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Воистину так!» – проговорили его губы. «Воистину!» – с облегчением прошептал я в ответ. Мимо нас ринулись орущие люди с камнями в руках. Многие несли в складках плащей целую груду булыжников и теперь старались избавиться от них поскорей. Казалось, рядом застучал град. Мы поневоле прижались друг к другу и расставили руки, чтобы уберечь одежды ревнителей. Я вдруг подумал, что никогда еще мы не были так близки, не действовали заодно, никогда я не оказывался наравне с ним, плечом к плечу. Но больше в тот день мы друг другу ничего не сказали.
Урчание в глубине толпы постепенно затихало. Кто-то уже шел обратно в город, вполголоса молясь и равномерно двигая поясницей. Наступило утомление, как после пронесшейся бури, не было только очистительного успокоения. Все плыло перед глазами. Я тряхнул головой, пытаясь привести в порядок свои мысли. Почему-то нас обходили стороной – или это мне почудилось? Одежда ревнителей по-прежнему лежала у наших ног. Неожиданно захотелось взглянуть на казненного – я повернулся и, не без труда двигаясь против людского течения, подобрался к груде камней. Из-под нее виднелись посиневшие ноги отступника, тянулся подсыхавший бурый ручеек. Комок желчи бросился в горло, но я сжал зубы и сумел подавить приступ дурноты. Не знаю, сколько времени прошло. Когда я вернулся назад, то застал устало подпоясывающихся ревнителей, а его – его не было.
Я шел в город обессиленный, одинокий, опустошенный. Ноги еле двигались вверх по склону, словно в конце восхождения на упрямую горную кручу. Я знал, что казнь была справедливой, но сердце мое молчало. Увы, я не выдержал испытания, и винить в этом стоило только себя. Значит, я еще недостаточно тверд. Мои губы жадно хватали вечерний воздух, воловье стрекало гулко било под ложечку. С горечью я понял: мне еще далеко до совершенства в учении, мое проникновение в глубины Слова и Закона ничтожно. И в который раз увидел, сколь неимоверно уступаю тому, за кем так долго стремился угнаться.
Потом я узнал, что на следующий день он пришел в собрание верных, и просил вменить ему в обязанность розыск остальных отступников. Настаивал, убеждал и добился своего. Говорили даже, что впал в исступление, что клялся искоренить их до последнего человека. Я был удивлен – и поспешностью его действий, и тому, что настолько мудрый, как казалось мне, человек, почитает необходимым такой жестокий шаг, что не видит других путей, других забот. Почему? – думал я. Неужели он опять видит дальше всех?
Тогда насчет несчастных, отклонившихся от Закона, существовала изобильная разность во мнениях. Одни считали, что их незачем трогать: столь малы они числом, столь косноязычны и необразованы. Бог, пренебрежительно утверждали многие, сотрет их с лица земли и без наших усилий. Конечно, надо казнить богохульников, дерзающих публично проповедовать свои ереси, но незачем гоняться за каждым деревенским сумасшедшим. Другие снисходительно полагали, что ничтожные души отступников заслуживают спасения и что их необходимо терпеливо разыскивать и вразумлять до последней возможности. Третьи же склонялись к проклятию и изгнанию, а в случае появления отщепенцев в пределах действия наших законов – к казни, хотя последнее осуществить было труднее, чем сказать – ведь высшая власть на земле отцов нам уже давно не принадлежала.
Скоро стало ясно, что проницательность моего друга опять не снискала себе равной. Посрамил своим поступком он и меня, думавшего, что все завершилось страшной, но необходимой казнью главы отступников и рассеянием их немногочисленной общины. В кругу избранных, к которому я тщательно прислушивался, считалось, что нам должны предстоять иные задачи, великие и грозные: осталось лишь собраться лучшим из верных, и провозгласить, как подступиться к ним, как готовить неизбежную бурю. Приближалось время исполнения предсказаний, гневных и недвусмысленных, и надо было срочно мастерить парус для необоримого Ветра Господня. Я слушал такие рассуждения, и душа моя освобождалась от пут неясного сомнения – ничто не представлялось мне невозможным.
Увы, твердость в учении не спасает от ложных шагов. Волны, взбудораженные горсткой отверженных, начали расходиться. Но долго еще близорукость мысли мешала недальновидным разглядеть истинное лицо уловителей нетронутых душ. Одним из заблуждавшихся был тогда и я. Разве стоила внимания судьба обреченных оборванцев и их шарлатанствующих предводителей? Всю силу нашего рвения и знания обрушить на никчемных людишек – не чрезмерной ли будет им такая честь? Лишь немногие из предстоятелей чувствовали неладное. Но мой соученик своими жаркими речами сумел убедить обеспокоенных: ему поручили разыскивать отступников по всему городу и окрестностям, вызывать их на публичные споры, а в случае несомненного богохульства – кликать стражу и требовать законного суда.
В собраниях книжников и ревнителей я его больше не видел – меня это очень огорчало. Вот тебе награда за старания и упорство! Ведь по правде, я перебрался сюда вслед за ним, преуспев лишь после длительных уговоров отца, не желавшего отпускать меня на долгий срок, пусть даже для благой цели. Но мои влечения были слишком сильны, и я не мог набросить на них узду сыновней покорности. Не стыжусь сказать, я с радостью покинул родные края. Подобно моему старшему другу, давно оставившему их пределы, я понял, что больше ничего не смогу взять у тамошних учителей, которые когда-то успешно кадили фимиамом мудрости перед неокрепшим разумом доверчивого юнца. Была обида – почему он мне этого не объяснил? Столько времени ушло! Ведь в последние месяцы перед его отъездом мы не единожды вели беседы о букве и духе, о многозначности неизреченного и часто сидели за свитками в кругу верных. Почему он делился со мной только толкованием священных слов, но не своими мыслями?
Вот и теперь он надолго пропал из виду. Хотя не раз до меня доносились слухи о его радении и неустанном подвижничестве во взятом на себя деле. Он преследовал отступников с неумолимым тщанием, раскапывал потаенные и глухие норы, где иногда скрывалось всего несколько человек. Знающие произносили его имя с уважением. Я постепенно склонился к тому, что он был прав, и опять ему позавидовал. Снова он раньше всех понял: сегодня самое важное – блюсти Закон в наималейших подробностях, выжигать его нарушителей с корнем. Любое нарушение единства людей Слова – вот самая страшная угроза. Будущее – в прочности и стройности, в отсечении ветвей гнилых и трухлявых. Как я мог этого не осознавать, как дошел до того, что почти сопереживал отступнику? Мне было стыдно, и в раскаянии я пошел на собрание ревнителей.