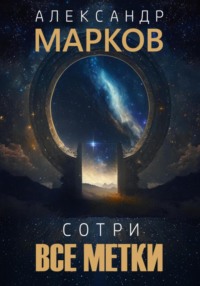Полная версия
1937. Русские на Луне
– Хм, – только и смог сказать Шешель, – но для этого хоть какими-то артистическими способностями обладать надо, – нашелся он, чем продолжить так неудачно начатую фразу, – видит бог – я не наделен ими. Да и желания делать актерскую карьеру не испытываю никакого.
– О, знали бы вы, сколько человек заложило бы душу, чтобы на вашем месте оказаться.
– Так в чем же проблема? Если от желающих отбоя нет, то вероятно, что среди них окажется авиатор. Вы такой возможности не исключаете? Нет? Хорошо. К тому же многие части расформировали за ненадобностью. Большинство авиаторов осталось не у дел.
– Ну а вы-то? Вы? Вы ведь тоже, как я понял, остались не удел?
– Я? Может быть. Но я повторяю, – он хотел вновь сказать, что не стремится к актерской карьере, но вдруг подумал о совсем другом, – кто будет играть главную женскую роль? Ведь такая предусмотрена?
– Конечно. Как же иначе. Главную женскую роль в этом фильме, – торжественно начал Томчин, – я хочу предложить Елене Александровне Спасаломской. А ваше имя я даже менять не хочу. Пусть космонавтом, который полетит на Луну, будет Александр Шешель. Первый человек на Луне – российский космонавт Александр Шешель. Звучит?
– Не знаю.
Шешель встал, пошел уж было к выходу, но вспомнил о том захолустье, где оказался. Поймать здесь извозчика будет сложно. А потом, он так и не поселился ни в какой гостинице. Без помощи Томчина ему никак не обойтись. Как ни крути.
– Я не смогу предложить вам большой гонорар за эту роль. Может, потом, когда фильм окупаться начнет. Но работа над этим фильмом вам на всю жизнь запомнится. Как я уже говорил, главную женскую роль согласилась сыграть Спасаломская, – это был главный козырь Томчина. Увидев, что актриса произвела на Шешеля должное впечатление, появившись не просто вовремя, а очень вовремя, словно мысли его прочитала, Томчин понял, что ее участие – главный аргумент, с помощью которого он может заполучить к себе в фильм и Шешеля, – не сочтите за труд, прочтите, пожалуйста, сценарий, а потом скажите свое окончательное решение. Но прошу вас – не отказывайтесь сразу.
Он выдвинул ящик стола, достал из него толстую картонную папку, завязанную веревочками на узелок в форме бабочки.
Томчин лишь мимолетно посмотрел в глаза Шешелю, чтобы понять, проглотил ли тот наживку. Теперь главное не спугнуть его слишком настойчивыми просьбами. Надо немного подождать – тогда он точно с крючка не сорвется.
Может, ему встречу со Спасаломской организовать? Та, кажется, тоже пилотом заинтересовалась. Ладно, сами разберутся. Не стоит ускорять развитие событий. Ведь, кажется, все складывается очень удачно.
– Прочитаю, – сказал Шешель, не став кокетничать и цену себе набивать, приправляя этот ответ словосочетанием: «если будет время».
– Позвоните мне, – сказал Томчин. Он протянул Шешелю свою визитку – маленькую картонку, на которой были вытеснены золотом фамилия, имя, отчество и телефон, а все это сопровождалось густыми зарослями золотых виньеток. – Звоните в любое время. Там помимо рабочего телефона есть еще и домашний, а если меня ни там, ни там не окажется, то либо прислуга, либо секретарша, которая в мое отсутствие замещает меня в кабинете, обязательно скажут вам, где я нахожусь, и сообщат о вашем звонке. Надеюсь, что это не последняя наша встреча.
Волей-неволей, но Шешелю пришлось отвечать взаимностью. Он сказал, что тоже будет рад еще одной встрече. Но это пустое обещание ни к чему его не обязывало.
– Да, – сказал Томчин, будто о чем-то важном вспомнил, – вы ведь говорили мне, что нигде еще не остановились. Так ведь?
– Да, я не думал задерживаться здесь.
– Не сочтите меня слишком навязчивым. Хочу вам показать очень приличную квартиру. Сразу скажу, что платить вам за нее будет совсем не надо. Это собственность киностудии. Ее предоставляют актерам из других городов на тот период, пока они заняты в съемках.
– Вы змей-искуситель, – сказал Шешель, – если я соглашусь на это ваше предложение, то мне придется согласиться и на съемки. Ведь так?
– Вовсе нет. Я ведь снимал вас в том старом фильме о гонках. Будем считать, что я ваш должник. Не отнекивайтесь. Что вы, право, такой скромник? Другие уж, дай я им подержаться за руку, руку-то мне вмиг бы оторвали и требовали: «еще, еще». Мало. Но зачем нам другие? Поехали. Я завез вас сюда, я вас отсюда и вызволю.
Шешель и не собирался отнекиваться. Он чувствовал, что его засасывает, будто он оказался в болоте, сделал шаг, а ноги в трясину попали. Он онемел. Стоит и ждет, когда трясина проглотит его с головой.
– Спасибо, но можно я еще похожу по студии. Один. Меня не примут за шпиона ваших конкурентов?
– Нет, конечно. Смотрите. Любуйтесь. Вот возьмите, – Томчин быстро написал на маленькой картонке по размеру такой же, что и визитка, адрес. – Это адрес квартиры. Покажите его извозчику. Любой найдет. А это ключи, – он достал связку, отодвинув один из ящиков стола.
– Благодарю.
Оставшись один, Томчин опустился в кресло. Пальцы его забегали по поверхности стола, как будто не знали, за что им сперва взяться. То ли графин ухватить, воды себе налить или платочком промокнуть выступившую на лбу испарину.
Он хотел оставить свой след в кино, такой же, а может, еще более яркий, чем Мельес. Он видел его фильм о полете на Луну лет десять назад и тогда же задумал снять свой, но тогда эта мечта была неосуществима и из-за отсутствия капитала и из-за отсутствия технических средств. Он не знал – получится ли у него сейчас все, что он задумал.
Когда-то он снимал по пятьдесят фильмов в год. Публика в кинотеатрах, возникших в двух столицах так же быстро, как грибы летом после дождя, прихотливостью не отличалась. Главной задачей было хотя бы количественно вытеснить с внутреннего рынка конкурентов с «Гомона», «Братьев Патэ» и «Теофиля Готье». С началом военных действий это стало несравненно легче, учитывая, что германские картины полностью сошли с дистанции, а французские – поступали с перебоями.
Он разнообразил сюжеты, отправлял съемочные группы на театр военных действий, начал демонстрировать в кинотеатрах настоящие воздушные баталии, танковые атаки, не забывая тем не менее сдабривать эту продукцию мелодрамами, которые вызывали у слишком впечатлительных дам слезы. Он экспериментировал, совмещал документальные съемки с художественными, размышлял – как добиться натуральности, чтобы движения актеров стали естественными, а не театральными.
После окончания войны Томчин наконец-то взялся за осуществление своей мечты. Перво-наперво он отправился в академию естественных наук, где попробовал узнать – с кем можно проконсультироваться по интересующему его вопросу. На него посмотрели сперва с удивлением, потом с улыбкой, а просьбу эту восприняли как шутку.
– Тут я вам не помощник. Более важными вопросами заниматься приходится, – сказал суховатый старичок, к которому Томчин попал на прием, – боюсь… – он точно вспомнил что-то, повеселел. – А впрочем, что я говорю. Отправляйтесь в Калугу. Найдите Циолковского. Он все знает. Сейчас дам его адрес. И вот еще что – не так давно заходил ко мне молодой человек. Тоже грезит межпланетными полетами. Визитку свою оставил. Я ее поищу. Если не выкинул – вам отдам. С ним пообщайтесь. Может, чего полезного для себя почерпнете.
Старичок порылся в столе, выдвигая поочередно все его ящики. Когда он дошел до последнего, у Томчина почти не осталось надежд, что визитка будет найдена.
– Вот она, – сказал старичок, протягивая визитку.
– Николай Георгиевич Шагрей, – прочитал вслух Томчин, – спасибо вам большое.
– А вот и адрес Циолковского.
– Спасибо.
– Извините, что более ничем помочь вам не могу.
– О, знали бы вы, как помогли мне.
На этом они, к взаимной радости, расстались.
Томчин чуть двинулся телом вперед, навис над столом, почти лег на него, а край врезался в грудь, из-за чего дышать стало неудобно, дотянулся до телефона, сорвал трубку, точно обезглавил. Телефонная трубка соединялась с корпусом скрутившимся в спираль тонким резиновым проводом, похожим на очень важную артерию в человеческом теле. Томчин несколько раз нажал на рычажок.
– Соедините меня, пожалуйста, с Шагреем.
Сказал он это с придыханием, будто у него астма, откинулся назад, уперся в спинку кресла. Сидеть стало посвободнее. Он сделал несколько глубоких вздохов, упиваясь ими. Следующие слова дались ему необычайно легко, потому что не находили уже никаких препятствий, мешавших выбраться им на свободу.
– Добрый день, Николай Георгиевич. У меня хорошие новости. Я нашел человека на главную роль. Думаю, что через пару-тройку деньков приступим к съемкам.
– Превосходно. Завтра утром приеду. Кое-что надо отрегулировать в тренажерах, – послышалось в трубке, в сопровождении потрескивания и щелчков, будто ответ был записан на патефонной пластинке.
– Буду рад вас увидеть. Вы не хотите знать – кого я отыскал?
Томчин расплылся в улыбке, будто в эту секунду его мог кто-то видеть, но для этого ему надо было либо дверь кабинета открыть, глядишь кто-нибудь из проходящих мимо и бросил бы на него взгляд, не убоявшись гнева Томчина за такую дерзость, или поступить еще проще – собрать совещание.
Он позволил себе в голосе проскользнуть мягким интонациям. Обычно в его голосе была только жесткость – только так можно управлять студией. Иначе начнет давать сбои, как ржавеющий механизм.
– Неужели я знаю?
– Думаю, что да. Это Шешель. Помните был такой гонщик, а впрочем, когда он выступал, вы, вероятно, еще в гимназию ходили. Очень известный гонщик был. Императорский приз в одиннадцатом году выиграл, – Томчин точно хвастался, будто все заслуги Шешеля принадлежали и ему тоже, – я об этих гонках фильм снимал. На войне Шешель прославился как воздушный ас.
– Я, знаете ли, в гимназии за гоночными соревнованиями следил. Мы брали большой лист бумаги, расчерчивали его на графы, писали фамилии гонщиков и места, которые они занимали на тех или иных соревнованиях. Я помню Шешеля и по тем временам. Читал о его военных успехах. Очень хорошая кандидатура. Как вам удалось его найти?
– О, это мой секрет. Итак, до завтра. Буду вас ждать.
– До завтра.
Когда он положил трубку, на лице его появилось мечтательное выражение, а взгляд уставился на противоположную стену, точно за спиной у него стоял проектор и вместе с солнечными лучами в окно вливались кадры из его еще не поставленного фильма. Но войди кто сейчас в кабинет Томчина и посмотри они на стену, ничего кроме старых, уже начинающих желтеть плакатов не увидели бы.
Нос уловил аромат пирожных, пропитавший уже весь воздух. Он въелся в стены и плакаты, как приторные духи. Желудок тут же забурлил, как гейзер, соками разъедая слизистую оболочку.
«Хочу».
Пирожные чуть засохли. Томчин выхватил из коробки первое попавшееся, но сжал его слишком сильно и перепачкался, когда брызнул крем. Томчин размазал немного крема по губам, стал слизывать его языком, как лягушка, ловящая муху или комара, потом с аппетитом облизал пальцы. Хорошо, что его никто не видел. Он не мог остановиться, пока коробка не опустела. Он заглянул в нее, прошелся пальцами по ее дну, подцепив большой кусок крема, слизнул его, а потом вытер губы тыльной стороной ладони. Крем остался везде. Томчин стер его полотенцем. На нем появились жирные пятна. Приник к графину. Пил не отрываясь мощными глотками, а кадык в это время ходил, как поршень, точно это именно он и заталкивает воду внутрь. Его мучила такая жажда, словно он только что выбрался из угольной шахты, где работал несколько часов.
После звонка Томчина Шагрей понял, что как минимум половина бессонной ночи ему обеспечена. Он мерил свою комнату, прохаживаясь из угла в угол и дожидаясь, когда же наконец глаза начнут слипаться, а тело просить положить его в мягкую кроватку.
Он не считал себя натурой впечатлительной, коих может лишить сна и незначительное происшествие, а после полугода, проведенного на турецком фронте, и вовсе мог спокойно спать, совершенно не обращая внимания на свист пуль да уханье взрывов. Редкими они были оттого, что турки испытывали нехватку боеприпасов. Они их берегли. Но русские, затеяв очередное наступление, продвигались столь стремительно, что турки просто не успевали опорожнить свои склады, и русским они доставались заполненными на три четверти.
Это была его не первая бессонная ночь. Предыдущие помимо стопки листков с расчетами, свернутых рулонами чертежей и схем, которые стояли во всех углах комнаты, точно маленькие дети, сосланные туда за какие-то проступки слишком строгим родителем, окрасили его кожу в бледные тона, щеки начинали вваливаться, глаза же, напротив, слишком выпирали из черепа.
Ему едва перевалило за двадцать. Последствиями недосыпания станут разве что несколько полопавшихся кровеносных сосудов на глазах, а под ними – фиолетовые, точно в них чернила впрыснули, набухшие мешки.
Окно его комнаты выходило во двор. На дне его сгустились сумерки. Шагрей облокотился о широкий подоконник, который вполне можно было использовать вместо стола или лавки, тем самым экономя внутреннее пространство. Он выгнул спину, запрокинул голову к небесам, пока еще серым то ли от низких туч, то ли от дыма ни на минуту не прекращающих своей деятельности заводов, и посмотрел на Луну, изредка являвшуюся в небе, совсем как серебристая рыбка, всплывающая из мутной воды и тут же уходившая в глубину, чтобы ее не успели поймать птицы или рыбаки.
Ему нужны были звезды. Но Луны пока хватало.
Он вспомнил, как сидел в окопе, готовясь к атаке, покусывал губу, потому что курить ему было нельзя по двум причинам: после болезни легкие у него на каждый вдох сигаретного дыма отзывались клокочущим кашлем, а еще огонек на кончике сигареты могли заметить турецкие снайперы.
Выступила Луна, осветив все серебряным светом. За те несколько секунд, пока она вновь не утонула в облаках, все разрозненные мысли, мучившие Шагрея вот уже не первый год, сложились одна к другой, будто хитроумная головоломка. Он улыбнулся, потом испугался, что его убьют в этой ли атаке или в другой, но непременно убьют и он так и не сумеет осуществить свои планы. Впору было искать учеников, чтобы как можно больше людей узнали бы о его идеях. Но заговори он сейчас с кем-нибудь о полете на Луну, подумают, что он немного помутился в рассудке. Перед атакой люди становятся странными. Внешне их еще можно узнать. Но что творится у них в душе? Артиллеристы уже обработали турецкие позиции. В воздух взвились сигнальные ракеты. К счастью, его даже не задело нисколечко ни тогда, ни позже.
Он полагал, что стоит ему лишь заикнуться о своих планах, как министерство науки выделит ему все необходимые средства. Увы, когда он приехал в Москву, переполненный от ожиданий, после первого же визита в министерство пришло разочарование. Хорошо, что приняли. Он и так пороги министерства несколько дней обивал. Но, выслушав, денег не дали ни копейки. Нет у министерства средств на исследования, перспективы которых столь туманны. Посоветовали написать фантастический роман. Может, он принесет деньги. Тогда Шагрей сможет продолжить изыскания на собственные средства. Идея хорошая.
Прошло два месяца, прежде чем его нашел Томчин. Денег у Шагрея к тому времени почти не осталось. Приходилось перебиваться случайными заработками, которые к полетам в межпланетное пространство отношение совсем не имели. Предложение Томчина Шагрей воспринял как подарок небес.
3
Дорогу обратно он не запомнил. Впору было брать проводника. Римлянина или галла, каждый из которых наверняка получше ориентировался в лабиринтах студии, нежели Шешель. Иначе заблудишься, заплутаешь и со временем превратишься в некое подобие домового, то бишь студийного, отчаявшегося выбраться наружу и поэтому решившего здесь поселиться. Постепенно обрастешь легендами, превратишься в местную достопримечательность, увидеть которую будет так же интересно, как привидение в замке. А что – идея неплохая. Всегда тепло, есть где подзаработать, за статиста могут принять, накормят, напоят, да еще денег немного выдадут за участие в массовке. Вот только, чтобы потратить их, придется-таки искать выход на улицу.
«А-ау, где вы, доблестные легионеры и не менее доблестные варвары?» Но в ответ тишина. Попрятались все куда-то, наблюдают, наверное, из-за угла, потешаются над беспомощным новичком. Поди сами в такой ситуации поначалу оказались. Ладно, ладно. Месть будет страшна.
Не стал Шешель обратно возвращаться. Примета плохая. Склонностью к суевериям он не страдал, а предпочитал все плохие приметы истолковывать с пользой для себя. Что плохого, если на гонках тебе выпадет номер 13? Абсолютно ничего, потому что и с таким номером ему удавалось приходить к финишу первым.
Да и чего уходить-то сразу. Шешель почувствовал, что испытывает желание побродить по павильону. Неизвестно, когда в следующий раз ему доведется вновь очутиться здесь. Дай то бог – не примут при этом за проникшего на секретный объект шпиона конкурентов, не поймают, не допросят с пристрастием и не выставят вон. Но все же как поступать, если он попадет на глаза к представителям службы охраны, да еще со сценарием еще не запущенного в производство фильма? Это все равно, что чертежи секретного оружия выкрасть. Что за подобное преступление полагается разоблаченному шпиону? Допрос с пристрастием – это только первый этап, а о дальнейшем и подумать было страшно. Есть ли у них тут реквизит камеры пыток инквизиции, который они, пока съемки не идут, используют по назначению, то есть – пытая пойманных шпионов конкурентов? Сгинешь в одноместном каземате. Никто никогда и не узнает, как закончился твой жизненный путь на Земле. На небесах может только случай представиться рассказать о случившемся.
«Томчин, где вы? Мне страшно здесь. Враги подбираются незримо, окружают, готовятся схватить. Что-то воображение разыгралось. Может, здесь атмосфера к этому располагает? А на Луне? А на Луне ее нет».
– Я вижу, что вы взялись за эту роль.
Шешель вдруг понял, что обращаются к нему, повернулся недоуменно на голос, а увидев перед собой красивую женщину, не сразу узнал ее, так что готов был разразиться той глупой фразой, с которой начал разговор с Томчиным: «Мы с вами знакомы?»
Он вовремя оборвал себя. Ни звука не издал, зубы стиснул, будто действительно к врагам в лапы попал. На лицо теперь надо напустить презрительное выражение.
«Ничего от меня не добьетесь».
Но вместо этого пришла другая мысль:
«Восхитительно хороша».
Теперь, когда Шешель увидел Спасаломскую без грима, понял тех ее поклонников, что вырезали из иллюстрированных журналов ее фотографии, вставляли в рамки и развешивали по стенам своих квартир, рядом с портретами своих родственников, будто и Спасаломская приходилась им какой то дальней, очень дальней родней. Любуйся, любуйся – не налюбуешься. И глаз не оторвать. Она переоделась. Вместо имитации восточного наряда гаремной красавицы на ней было темно-синее платье. Оно ей очень шло. Но ей все шло.
Спасаломская правильно поняла причину его заминки. Слов-то он не говорил, но глаза его все сказали. Поражен в самое сердце. Неизлечимая рана. Спасаломская мгновенно сделала диагноз. Она не ошибалась. У нее была большая практика.
Шешелю хотелось, чтобы она не уходила, была рядом еще какое-то время, но для этого не надо было столбом стоять, а он не знал – как разговор начать, с каких слов. «Погода хорошая нынче». Ага. Точно. Учитывая, что они света белого не видят. Может, там буря разразилась. Разве что попросить актрису гидом поработать, студию показать. Что-то подсказывало ему, что она от такой просьбы не откажется. Как же можно отказать боевому офицеру, авиатору, можно сказать, герою войны, да еще с таким жутким шрамом на лице?
Он и на это не решился. Дар речи совсем потерял. Придется дальше знаками изъясняться и мычать, как корова. Она-то его только и поймет.
К удивлению, Спасаломская его тоже поняла, ткнула пальчиком в папку, которую Шешель держал в руках.
– Сценарий?
– Это, – Шешель посмотрел на свои руки. Тут бы ему закричать: «Нет. Не знаю я, что это. На полу валялось, я и подобрал». Уронить папку и не поднимать ее больше, но он протянул папку Спасаломской, будто она никогда не видела ее содержимого.
– Нет. Нет, – сказала Спасаломская, – у меня уже есть такая, да и нести ее тяжело.
– Да. А я еще и не читал сценарий. Даже не знаю, о чем там речь.
Морщинки собирались возле краешков ее губ и глаз, когда она улыбалась или смеялась, и тут же разглаживались, не оставляя после себя никаких следов. Пока не оставляя. Со временем, когда кожа потеряет упругость, морщинки грозили поселиться возле ее губ и глаз навсегда и оттуда начать завоевание всего лица. Но и тогда оно будет красиво. Не так, как сейчас. По-другому. Но все равно красиво. Кожа у нее немного лоснилась, блестела, будто из пор выступил растопленный яркими прожекторами жир. Она густо смазала ее каким-нибудь питательным кремом, чтобы нейтрализовать губительное воздействие грима. Он делает кожу такой же сухой, как пергамент старых книг. Неприятно, когда лицо обтянуто пергаментом. Страшно неудобно.
– Прежде мне не приходилось играть в таких фильмах, – сказала Спасаломская.
– Мне-то тем более.
– Таких фильмов раньше никто не ставил. Может выйти очень любопытно. Почитайте. Не пожалеете.
Очень остроумно – говорить с актрисой о кинофильмах. Все равно, что с ним обсуждать характеристики истребителей разных конструкций. Неправильная точка зрения, что ему, кроме них, ни до чего нет дела. В корне неправильная. Но, видит бог, другой темы он предложить не мог. Разве что поговорить с ней… о характеристиках истребителей, или об автомобилях, или о погоде.
Мимо прошла галдящая толпа римлян и галлов. Они вновь заключили временное перемирие.
– У вас тут весело.
Шешель спрятал сценарий в саквояж.
Незаметно, совсем незаметно они вышли во двор. Рядком у забора выстроилось несколько автомобилей. Среди них выделялся красный спортивный автомобиль, появившийся в продаже пару месяцев назад. Кажется, он назывался «Стальной ветер». Авто это оставалось редкостным явлением даже на улицах столичных городов. Не столько из-за дороговизны, а оценивалось это произведение отечественного автостроения в целое состояние, но все-таки купцам Поволжья, собравшим хороший урожай в минувшем году, роскошь эта была вроде мелкой безделицы, купить которую можно из-за причуды, поиграть чуть и подарить кому-нибудь, когда наскучит, все равно от прихоти этой капиталы не пострадают. Просто слишком мало их еще выпустили. Поговаривали, что автозаводы не могут справиться с заказами, хоть и работают круглые сутки, а желающие в очереди выстраиваются чуть ли не в такие же, в какие немцы за хлебом под конец войны выстраивались, когда с продовольствием у них совсем плохо стало. Если авто эти будут выпускать с прежней скоростью, то очередь на них рассосется месяца за три-четыре. Не раньше.
Слегка приплюснутый сверху сигарообразный корпус казался слишком большим для двухместного авто. Здесь можно было расположить еще как минимум один ряд кресел, но большая часть корпуса скрывала мощный двигатель, который, приставь к авто крылья и пропеллер, наверное, мог бы поднять его в воздух.
Все остальные авто рядом со «Стальным ветром», какими бы представительными и дорогими они ни были, становились фоном, который лишь оттеняет истинное произведение искусства и не более того.
– Красота, – не удержался Шешель от комплимента этому своему первому увлечению, а актриса, проследив направление его взгляда, отчего-то сказала «Спасибо», будто комплимент этот относился к ней. К ней он тоже относился, но Шешель пока боялся говорить ей что-то подобное.
– Мне тоже это авто нравится. Прежде у меня «Лоран» был.
Какие слова: «Стальной ветер», «Лоран», будто из той жизни, из сказки. На войне несколько «Лоранов», пришедших из Франции, переделали под броневики, но «Руссо-Балты» подходили для этой роли лучше.
Луна – это тоже сказка? Томчин говорил, что нет. Может, проверить?
Похоже, она брала уроки у иллюзиониста или могла материализовывать предметы из пустоты. Застопорись на месте ее актерская карьера, то она сможет выступать в цирке, показывая фокусы. Откуда ни возьмись на указательном пальце у нее появилось серебряное колечко. Шешель не видел, чтобы Спасаломская доставала его из сумочки. К колечку были прикреплены два ключа от авто. Она слегка пошевелила пальцами. Ключи мелодично зазвенели, как колокольчики. Все это было сродни действиям рыболова, когда тот немного дергает удочку, чтобы наживка на крючке ожила и сонная рыба наконец-то выбралась из тины и водорослей и закусила наживкой вместе с крючком.
– Возьмите.
Она протянула Шешелю ключи. Теперь они лежали у нее на раскрытой ладони. Помимо них к колечку крепился маленький золотой брелочек в форме сердца.
Бог ты мой, от такого предложения у любого кругом пойдет голова. Шешель почувствовал, что ноги его начинают дрожать, точно это земля под ними трясется или он перенесся на палубу катера, в чреве которого работает двигатель, отчего палуба ритмично содрогается.