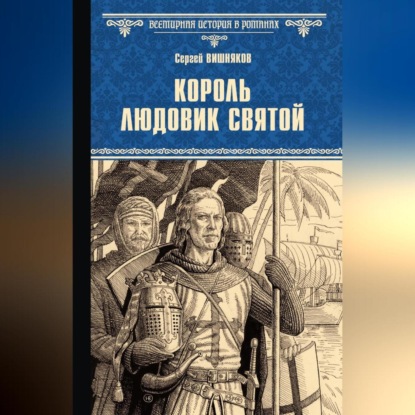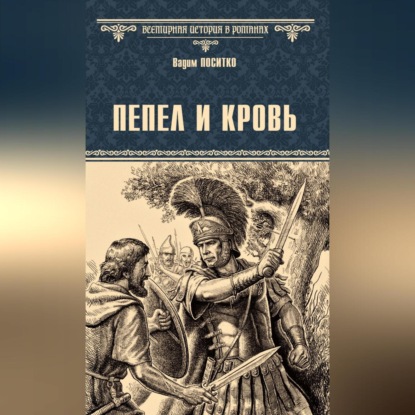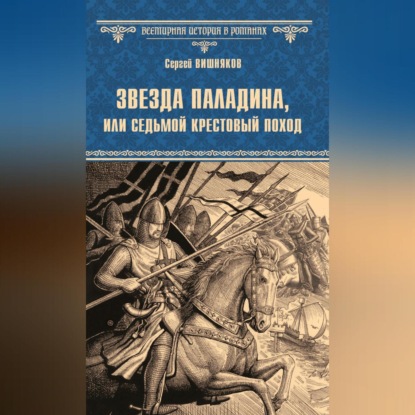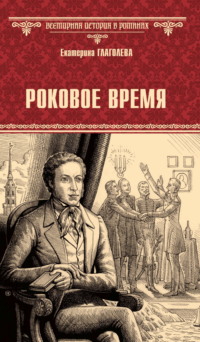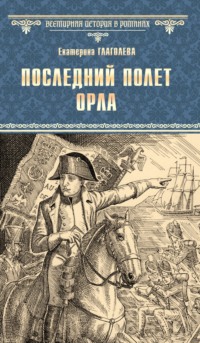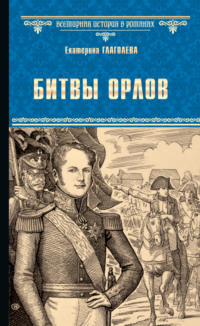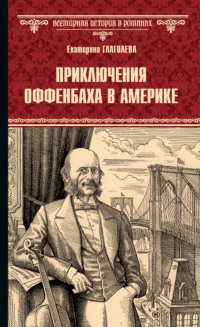Полная версия
Пришедшие с мечом
Господам что – фьють! Сели да поехали. И то еще, когда выезжать было разрешено только женщинам и детям, некоторые рядились в женское платье, подвязывая щеки – будто бы зубы болят, а на самом деле, чтобы скрыть бакенбарды. А дворня, почитай, вся осталась. Как пришли французы, люди фабриканта Баташёва бежали из усадьбы на Швивой горке за Яузу и там стали лагерем: посадили детей и жен в капустные грядки и охраняли их от грабителей. Приказчик их, Соков, храбрый человек оказался, дай Бог ему здоровья. Только засели они в капусте, как слышат – стоны неподалеку. Часть ребят побежали туда – ахти, Господи! Человек лежит весь в крови: ограбили, руки-ноги переломали, чуть до смерти не убили! Так Соков этот взял с собой мужиков покрепче, да с дубьем, и пошел в кусты, куда скрылись злодеи. А там сидят человек двенадцать – все с подвязанными руками и головами, якобы раненые, а это разбойники и есть! Не французы – наши! Баташёвские их отметелили как следует, а потом нашли в воде, среди осоки, множество разного платья и прочих вещей.
На подобные рассказы всегда отвечали своими историями, одна горше другой. Спасаясь от огня, погорельцы скучились на Полянском рынке вокруг фонтана, ища защиты у святителя Григория Неокесарийского, а злодеи тут как тут: узлы разрывали, отыскивая драгоценности, с мужчин снимали сапоги, одежду, вытаскивали из карманов часы и табакерки, с женщин срывали платки, шали, а то и платья, серьги выдергивали прямо из ушей, кольца с пальцами отрубали, – крику-то, шуму, и огонь гудит, и ветер завывает… А баб сколько ссильничали! Девушек, совсем молоденьких! К одной барышне француз приставал, она не давалась, плакала, служанка вызвалась вместо нее, так они ее вдвоем… Мало им шалав мокрохвостых, которые к ним слетелись, как мухи на мед! На улицах девочек десятилетних находили… В Алексеевском монастыре над монахиней надругались… А в Зачатьевском – там больше старушки, их не тронули. Игуменья пошла к кавалерийскому полковнику французскому, барону Талуэ, просила его защитить их. Он ей и говорит: я-то сделаю всё, что могу, но знайте, что я нарушу приказ моего начальства – грабить нынче дозволено.
Если французам попадешься, это еще ничего. К одному чиновнику в дом залезли, стали везде шарить, глядь – на них детишки в щелку смотрят, любопытствуют. Так они на другой день туда вернулись и детишкам игрушек принесли – должно, в какой-то лавке взяли. У профессора университетского жена рожала – они мимо прошли на цыпочках и ничего женского не взяли, только вещи мужа с собой унесли. А сколько раз уже бывало: выйдут французы из какого дома, набив мешок всякой всячиной, увидят кого из наших на улице, сейчас захватят и велят нести мешок до своей квартиры, но уж с пустыми руками не отпустят – накормят, напоят, а когда и с собой чего съестного дадут или деньгами наградят. Одного так заставили сундук тащить в даль дальнюю, а как дотащил, говорят: ступай, мол, с богом, а он им: как же я пойду? Ваши же опять меня схватят! Так они ему выписали бумагу на своем языке – иди, говорят, и ничего не опасайся. И точно: пошел он, наехали на него конные, он им бумагу показал, они отпустили его и ничего не взяли. Но это на кого нарвешься. Не приведи Господь, на поляков или на немцев, тут уж спуску не дадут, беспардонное войско – их ни слезами, ни мольбами не проймешь. Люди говорят, их и пуля не берет. Но обидней всего, конечно, когда свои своих же грабят и обижают, точно нехристи какие.
Как Гостиный двор-то загорелся, так туда купцы поехали прямо на бричках и ну набивать их всяким товаром – да только не свой спасали, а чужой прикарманивали. Потом чуть не передрались между собой, как добычу делили. А уж если купцы так поступают, то крестьяне чем лучше? И они Гостиный двор чистили, таскали всё, что под руку попадется. Двое дворовых ходили туда, как на промысел: набрали себе меду, рыбы, церковных книг и прочего, а потом еще наткнулись на трех крестьян с шалями и платками и забрали всё себе. Ни стыда у людей, ни совести…
* * *На Красной площади, под стенами Кремля, гудел стихийный рынок – солдаты выменивали друг у друга то, что удалось спасти из огня. Семейные охотились за мехами и кашемировыми шалями, обещанными в подарок женам (в Париже их не найти), и готовы были отдать за них золотые вещи или шелка, любители присматривали себе картины и книги, предлагая за них копченую рыбу и макароны. Здесь можно было раздобыть покрытые пылью и паутиной бутылки с вином и коньяком такой выдержки, что во Франции они бы стоили целое состояние, диковинные желто-зеленые шишки ананасов, которых многие солдаты прежде не только не пробовали, но и не видывали, коробки с инжиром, чай, кофе, сахар, шоколад… Вот только белого хлеба, свежего мяса, другой привычной еды с каждым днем становилось всё меньше.
В городских домах вельмож, напоминавших загородные усадьбы, поселились самые нахрапистые. Дезидерий Хлаповский, командир эскадрона из 1-го уланского полка, занял дворец князя Лобанова на Мясницкой, а генерал Красинский – еще более роскошный дом купца Барышникова напротив, с обнесенным решеткой двором. Из домов не успели вывезти мебель, и поляки отдыхали на удобных широких кроватях с сафьяновыми матрасами; выйдя же из дому через заднюю дверь, они словно попадали в деревню: там были сад с оранжереей, огород, сеновалы… В пристройках оказалось около сотни человек – дворовых, крестьян, мастеровых. Они были согласны готовить еду, чинить или шить одежду и обувь, исполнять иные привычные для них обязанности, лишь бы их не трогали.
В доме одного немецкого купца разместились двенадцать итальянских офицеров. По утрам из окон можно было смотреть, как гвардия строится под полковую музыку для парада. Гренадеры быстро навели уют, раздобыв где-то скатерти и всякую домашнюю утварь; из муки, найденной на пепелищах, пекли вкусный домашний хлеб; по совету поляков, квасили на зиму капусту. За обедом поднимали тост за благополучное окончание нынешней кампании и скорейшее взятие Санкт-Петербурга в следующем году. Единственное, что омрачало настроение кавалеристов, – недостаток фуража, от которого лошади гибли сотнями.
Двадцатилетний лейтенант Поль Бургуэн стоял у окна с неожиданной находкой: в огромной библиотеке московского градоначальника Ростопчина, который не успел спалить свой собственный дом (в печных трубах нашли кадки с ракетами, порохом и смолой), он обнаружил книгу своего отца – «Исторические и философские записки о Пие VI и его правлении вплоть до его удаления в Тоскану». Поль перелистывал страницы, но буквы расплывались из-за слез, внезапно навернувшихся на глаза. Отец… Такой добрый, простой, всегда веселый, неунывающий, неутомимый… Он умер в прошлом году. Пять лет назад брат Арман проявлял чудеса храбрости под Остроленкой, чтобы попросить в награду за свой подвиг новую должность для отца, который угодил в опалу, неловко предсказав желание Наполеона возложить себе на голову корону. Бургуэна-старшего тогда отправили чрезвычайным послом в Дрезден к Фридриху-Августу Саксонскому, чтобы присматривать за польскими делами[3]. Он начал писать мемуары, предназначавшиеся единственно для его сыновей, но успел окончить только первые пять глав. Теперь уже никакой подвиг не вернет его из могилы…
Несколько легкораненых, выпущенных из Воспитательного дома, пытались отнять у русского мешок с капустой; Анри Бейль выхватил саблю и прогнал их; русский бросился наутек со своим мешком, а Бейль продолжал свой путь.
Он сам предложил Пьеру Дарю подобрать новую квартиру для интендантства взамен дома Апраксиных, который был сильно разграблен под предлогом тушения пожара: Анри требовался повод, чтобы колесить по городу, бросив свои скучные занятия. Разумеется, все хорошие дома оказались заняты. Маршал Мюрат, вынужденный бежать из роскошного дворца какого-то промышленника на Швивой горке, расположился теперь в имении графа Разумовского на берегу Яузы; чудом уцелевший дом князя Куракина, русского посланника в Париже, отдали раненому генералу Нансути. Этот дворец на Басманной поджег полицейский; дворецкий с четырьмя лакеями схватили его, избили палками и отвели к французам, которые тушили дом князя Трубецкого; поджигателя тотчас расстреляли. Аудитор Госсовета продолжал объезжать усадьбы, справляясь об их бывших владельцах.
Всё воодушевление от нового похода, с которым Анри выехал в путь в конце июля, нагруженный письмами и посылками для императора, испарилось за несколько дней на жаре, в пыли, среди грязи, вони и тупоголовых остолопов, нечистоплотных во всех смыслах этого слова. Как это было не похоже на самый первый его поход, двенадцать лет назад! Правда, тогда он был восторженным семнадцатилетним юнцом, для которого всё было внове: он только учился ездить верхом и обращаться с саблей, чуть не утонул в озере, чуть не свалился в пропасть во время перехода через перевал Сен-Бернар, но именно чувство опасности больше всего опьяняло вчерашнего ребенка, которого всегда чрезмерно опекали. А еще величественные пейзажи Швейцарии: горы, ледники, ущелья… Потом он увидел Милан и тотчас влюбился в этот город, где было красиво всё: дома, кофейни, женщины, театр – так тепло, шумно, приветливо, не то что в холодном тщеславном Париже! Все его приятели обзавелись там любовницами, и только он был слишком застенчив, чтобы заговорить с женщиной, не требовавшей денег за свои поцелуи. Платой за робость стала дурная болезнь, из-за которой младший лейтенант драгунского полка покинул армию. Прозябать в провинциальном гарнизоне? Не так лейтенанты артиллерии становятся императорами, а сыновья лавочников – маршалами Империи.
Скряга-отец назначил Бейлю слишком скудное содержание; на эти деньги было невозможно утолять духовную жажду и одновременно подвизаться в свете, возмещая искусством портного недостатки внешности, полученной от природы. Впрочем, его кузен Пьер Дарю, госсекретарь, тоже был далеко не красавец, и придворный костюм шел ему, как корове седло, однако он сумел пробиться в ближний круг, стал графом и великим офицером ордена Почетного легиона, а его брат Марсьяль Дарю теперь звался бароном. Оба не скрывали своего презрения к Анри, вечно витавшему в облаках, мечтая об успехах и наградах самого разного рода; его неудачная попытка сделаться банкиром в Марселе не улучшила их мнения о кузене, но родня есть родня, и вскоре Анри Бейль уже ехал с Марсьялем Дарю в Германию.
Наполеон был где-то впереди и одерживал победы, военный комиссариат тащился по его следам из Майнца в Вюрцбург, из Вюрцбурга в Бамберг… Йена, Прейсиш-Эйлау, Фридланд – для интендантства громкие победы означали только требования немедленно подвезти боеприпасы, перенаправить обозы с провиантом, вывезти раненых, устроить госпитали… Когда Пьер Дарю выехал в Эрфурт – готовить встречу императоров Франции и России, – его кузен Бейль остался в Брауншвейге.
Стендаль… Вообще-то Штендаль, но Стендаль, а еще лучше – Стандаль звучит гораздо красивее. В этом небольшом городке Анри пережил безумную страсть с Вильгельминой фон Грисхайм. Но в остальном ему не нравилось в Германии, ему опротивели черный хлеб и тушеная капуста с пивом – совершенно отупляющая диета, особенно вкупе с пуховыми перинами. Врач подтвердил, что у него сифилис, и рекомендовал лечиться в Париже, но австрийцы перешли в наступление, Бейль вернулся к своим обязанностям, видел пожиравший людей пожар Эберсберга, вступление Наполеона в Вену… Вена! Музыка, изящество, скука… Анри отправил прошение о своем переводе в Испанию, но, не дождавшись ответа, уехал в Париж.
Его назначили аудитором при Государственном совете и поручили составить опись произведений искусства в императорских музеях и дворцах. Он стал подписываться «Анри де Бейль», купил себе модный кабриолет, заказал печатки со своими инициалами, взял в любовницы оперную певицу, но оказалось, что когда у тебя всё есть, то не о чем мечтать. Он взял отпуск на «несколько дней» и… уехал в Милан. Потом в Болонью, во Флоренцию…
В Риме он столкнулся нос к носу с Марсьялем Дарю, который поторопил его с возвращением из затянувшегося отпуска, а то Пьер уже рвет и мечет. Однако Анри прежде побывал в Неаполе, Помпеях, Парме… Как гнусно, что люди способны опошлить всё, что ни есть великого на свете, будь то Неаполитанский залив, Колизей или трагедия Геркуланума.
Пылающий Смоленск стал прелюдией к великому, эпическому пожару покинутой Москвы. Огромная огненная пирамида упиралась своей верхушкой в небеса, под самым серпом луны, и в этом было что-то ветхозаветное, мистическое, сверхъестественное. Но даже такое величественное зрелище не внушило никакого трепета мелочным душонкам мародеров, сновавшим, точно крысы, по дворцам, где с жалобным звоном лопались стекла от страшного жара. Товарищи Бейля запасались вином, поскольку это лучшее средство от поноса. Единственной добычей Анри стал томик «Анекдотов» Вольтера.
Москва потрясла его своей роскошью, отданной на поругание, – не холодной, тщеславной, показной, а созданной для удобства и приятности жизни, что еще увеличивало горечь утраты. В Вене люди с ежегодным доходом в сто пятьдесят тысяч франков всю жизнь серьезны и помышляют лишь о кресте ордена Святого Стефана; в Париже они из кожи вон лезут, чтобы потешить свое тщеславие, и на дух не выносят друг друга; в Лондоне они желают играть роль в правительстве, а здесь, в России, при деспотическом правлении, они купаются в наслаждениях и забавляют гостей… вернее, так было до самого прихода французов.
В разгар московских пожаров Бейль ехал в дрожках по Пречистенскому бульвару. Группа оборванцев, спасавшихся пешком, громко говорила по-французски. Анри велел кучеру остановиться; это были актеры французской труппы, которые прежде выступали в Арбатском театре, ныне пылавшем, как свеча. На трагике была фризовая шинель и какой-то нелепый колпак, на комике – семинарский сюртук и треуголка, «благородный отец» был в штанах, а «злодей» – без оных, зато в ботфортах, несколько человек шли босиком, один, совершенно голый, завернулся в плащ своего товарища. Среди актеров была и дама – в красном жакете на меху, доходившем ей до колен, но без единой юбки. Анри предложил ей занять место в его коляске. О Боже! Аврора Бюрсе! Это с ее труппой в Россию уехала Мелани Гильбер – его Луазон! Волнуясь, Анри назвал себя; мадам Бюрсе сказала, что много слышала о нём от мадемуазель Сент-Альб. Она здесь? Жива? Увы, мадам Бюрсе ничего о ней не знает: Мелани давно покинула сцену и вышла замуж за какого-то русского генерала.
Мелани! Они вместе брали уроки декламации у Дюгазона (который потом сошел с ума и умер). Это было семь лет назад… Голубоглазый белокурый ангел меланхолии с такой же нежной душой, как у Анри. Они виделись каждый день, целовались, но и только: Мелани боялась снова забеременеть. Зато с ней он начал привыкать к счастью. Она получила роль в Большом театре Марселя, он приехал туда к ней. За семь месяцев он вновь разочаровался в себе и в жизни, к тому же разорился; Марсель стал казаться ему скучным, слезливое тиранство Мелани – несносным, он сбежал от нее в Германию, а она подписала ангажемент с труппой мадам Бюрсе.
В Петербурге труппа не произвела впечатления, ее отправили в Москву, и только мадемуазель Сент-Альб (сценическое имя Мелани) осталась в столице и появлялась вместе с мадемуазель Жорж в «Ифигении в Авлиде». Русская публика не оценила чувствительности, которую Мелани вкладывала в свою игру, называя ее плаксивостью, к тому же Луазон никогда не отличалась крепким здоровьем. Она расторгла контракт «по болезни». Хотя, скорее всего, это муж заставил ее покинуть сцену. Кстати, кто этот муж? Где они жили с Мелани: в Москве или в Петербурге? Этого мадам Бюрсе сказать не могла, у нее было полно своих хлопот. Ее брата Армана Домерга арестовали еще в августе и выслали на барже куда-то «в Азию» вместе с другими «подозрительными», а его жена с маленьким сыном осталась в Москве. Актеров ограбили дважды: сначала русские, перед тем как покинуть Москву, а после французы; у них не осталось ничего, совершенно ничего – как им теперь жить? Бейль обещал поговорить о них с Дарю, он что-нибудь придумает.
Пьер действительно придумал. В двух кварталах от дома Апраксиных, где он по-прежнему квартировал, обнаружился почти не разграбленный угловой особняк с роскошным шестиколонным портиком, во внутреннем дворе которого был возведен двухэтажный театральный зал со сценой, оборудованной настоящими машинами. (И как это Анри его пропустил? Кхм.) Мародеры умыкнули занавес и люстру, но всё остальное цело, у входов поставили караулы. Император будет доволен, если в Москве появится французский театр. Пусть там играют комедии и водевили для развлечения гвардии. Генерал-интендант граф Дюма нашел в Кремле несколько сундуков с царской одеждой – сойдет для костюмов; занавес можно смастерить из церковной парчи и люстру взять тоже из собора. Пусть разучат какую-нибудь известную пьесу… Например, «Игру любви и случая» Мариво. Вход будет платным, все сборы – на пропитание актерам.
* * *«Москва, 23 сентября 1812 г.
Милый друг, я получил твое письмо от 7 сентября, то есть дня Москворецкого сражения, таким образом, ты теперь знаешь об этом великом событии. Здесь всё хорошо, жара умеренная, погода прекрасная, мы расстреляли столько поджигателей, что их больше нет. От города осталась четверть, ¾ сгорели. Я совершенно здоров. Прощай, мой друг, будь здорова и весела, четырежды поцелуй за меня моего сына, любая мелочь, которую ты сообщаешь мне о нём, доставляет мне удовольствие и вызывает желание его увидеть. Безраздельно твой, Нап.»
2
Престол Святого Евпла был ниспровержен, но жертвенник цел и непоколебим; все святые иконы в иконостасе невредимы, только с некоторых сорваны оклады. Спаситель лишился серебряного венца; с храмового образа архидьякона Евпла тоже сорвали венец, но вызолоченная серебряная риза осталась на месте. Часть мощей святого мученика отец Михаил отыскал в куче сора – уже без серебряной оправы. В верхнем этаже и престол Святой Троицы, и жертвенник уцелели и даже остались покрыты катасаркой и индитией, только антиминс куда-то делся; иконостас тоже сохранился во всём своем великолепии. Ризница же была разграблена, почти вся церковная утварь вынесена, пол усыпан медяками, которыми воры побрезговали.
Для отправления службы отец Михаил выбрал верхнюю церковь, покрыв престол антиминсом из нижней; крест и Евангелие есть, иконы тоже. Ну – Господи, благослови!
Протоиерей Кавалергардского полка, отец Михаил попался в плен к неприятелю в самый день оставления Москвы – не успел вовремя уйти. Его довольно грубо обыскали и ограбили, отняв всё, что было при себе ценного, в том числе из церковного облачения, а потом отвели в подвал, где сидели другие пленные. Несколько дней провели в жажде и гладе, содрогаясь сердцем от звуков, доносившихся в узилище, – Москва горела! Отец Михаил уже подумал грешным делом, что не быть ему живу, однако молитва его дошла до ушей Господа нашего. Как только пожары стали стихать и в подвал заглянуло какое-то начальство, священник протолкнулся к нему, заговорил на латыни. Его отвели к коменданту, который выслушал его участливо и раздобыл ему письменное разрешение на свободное отправление Божественной службы. Дальше ему пришлось испить еще одну горькую чашу, осматривая оскверненные, разграбленные церкви. В некоторых стояли уланские кони, в других ютились оборванные, закопченные люди, оставшиеся без крыши над головой, – женщины с детьми, больные, старики… Рядом с ними церковь Святого архидьякона Евпла на Мясницкой казалась почти нетронутой; правда, все служители ее сбежали. У входа на каменную лестницу, ведущую на гульбище, встали двое французских солдат – караул.
К счастью, какой-то пономарь явился сам, узнав, что Божий храм снова приемлет верующих. Как только он ударил в большой колокол, в церковь начал стекаться народ.
Был царский день – годовщина коронования императора Александра Павловича. В душе отца Михаила боролись страх и радость, дерзость и печаль. Во время молебствия о здравии монарха и всей императорской фамилии народ с плачем опустился на колени. Многолетие пели более часа, пока люди один за другим подходили приложиться к кресту, и всё это время звонили колокола; пономарь дал себе волю, яростно перебирая малые и при этом ударяя во все тяжкие: «Здесь мы! Здесь мы!» – неслось над изуродованной, смрадной, почернелой Москвой.
* * *Торжественно рокотал орган, сопровождая Te Deum laudamus[4]; чистые сильные голоса выводили слова древнего латинского гимна, возносившиеся под белоснежные своды минского кафедрального костёла. Такой же белоснежной была голова Якуба Дедерки под епископской митрой; он тоже пел, и его незабудковые глаза под тяжелыми нависшими веками сияли внутренним светом.
Костёл был полон: публичное благодарственное молебствие за победы над неприятелем и занятие непобедимым войском города Москвы совершалось в присутствии всех военных и гражданских властей. Генерал-губернатор Миколай Брониковский сверкал золотом эполет и галунов, за его спиной заняли места представители всех главных шляхетских родов со своими семействами.
Когда пение смолкло, вперед вышел Ян Ходзько с заготовленной речью в руках. Немного волнуясь, он обводил костел взглядом больших синих глаз, пока не встретился с теплыми карими очами своей жены Клары, светившимися любовью и одобрением. Их шестеро детей сидели тут же, даже четырехлетний Михал и маленькая Зося.
– Граждане поляки! – заговорил председатель городской администрации. – Полтораста лет прошло с тех пор, как польский народ, грозный врагам и образцовый во внутреннем управлении, стал, благодаря дурно понятым принципам свободы и гордости своих магнатов, клониться к упадку, и хотя в это время он не раз давал доказательства врожденного мужества, благородства, любви к Отечеству и иных высших добродетелей, он не смог избежать рокового предопределения, не смог превозмочь всеобщего падения нравов, и в последние часы своей политической жизни доблестный поляк имел силы лишь на то, чтобы почтить кончину своей матери-родины достойным и трогательным памятником…
По рядам пробежал легкий ропот; Ходзько перевернул страницу.
– Отечество, растерзанное соседями, утратило свое древнее имя, умерло для Европы и для всего политического мира, скрыв остатки жизненного духа в сердцах своих любимых сыновей: Домбровского, Князевича и других, которые, не будучи в силах помочь народу, старались сохранить имя польского солдата. Но вот, после восемнадцати лет разорения, позора и рабства, после потери всего, что смело называться польским, наше благополучие освещает новая утренняя заря. Герой, превосходящий своими подвигами всё, к чему с удивлением присматривались народы древности, и в кои позднейшие поколения поверят лишь на основании оставшихся свидетельств мужества, величия и доброты, соизволил обратить на нас, о братья, свои творческие силы, и всё принимает иной вид. Гордые своею многочисленностью, надменные отряды москалей обращаются в бегство, словно ночные тени пред ясным ликом солнца.
Ропот звучал теперь одобрительно, воодушевляя оратора.
– От знойных берегов Тахо до заснеженной Волги покоренная земля возносит горячие молитвы Творцу о продлении дней того, от чьей воли зависит благо стольких народов: одни, осчастливленные его милостивыми законами, наслаждаются плодами долгого мира, другие, выведенные из безвластия, – общим благом единомыслия и единения; наконец, мы, поляки, еще три месяца тому назад оторванные насилием тирана от остальных наших братьев, видим себя теперь в лоне единого Отечества и слышим из уст нашего избавителя: «Польша существует!»
– Да здравствует Конфедерация Польского королевства! – выкрикнул кто-то. Ему ответили: «Виват!»
– Могучие отряды великого Наполеона перешли русла Немана, Двины и Днепра, – продолжал Ходзько, – разбив неприятеля под Могилевом, Дриссой, Полоцком, Островной, Смоленском и Можайском, они водрузили победные знамена на стенах древней столицы москалей. С 1611-го года Москва не видела в своих стенах врага. Двести лет пребывала она в мире и своей безграничной гордостью пыталась уничтожить следы своего былого ничтожества, погасить память о мужестве поляков, приведших к подножию трона короля Сигизмунда III её царей закованными в цепи. Вот месть справедливого Неба, ниспославшего в лице Наполеона мстителя за обиды и притеснения. Наглый москаль преклоняет пред ним дрожащие колена и, забыв о своей недавней надменности, покорно ждет повелений нового владыки.
– Виват Наполеон! – послышалось снова. Ходзько выждал немного, перебирая страницы речи.
– Вместо Жолкевских, Гонсевских, Баториев, Замойских и столь же славных наших предков испуганные взоры скифов видят Понятовских, Зайончков, Князевичей, Чарторыйских, Красинских, видят Радзивиллов, потомков прежних своих победителей, видят тех, кого еще так недавно они грозили поглотить и предать вечному забвению! – провозгласил он торжественно. – Уже отысканы следы тех путей, по которым наши предки ходили на поле славы. Братья литовцы, сыновья одной матери Польши, там ждут и нас! Нам открыт широкий путь к славе и великим подвигам! Нас призывает герой всего мира, избавитель Польши, великий Наполеон! Нас кличут народы Европы, созванные его могучим голосом для нашей защиты! Нас зовет пробужденное Отечество, зовут наши братья, покрытые победной славой средь неприятельских земель, нас зовет кровь убитых и раненых поляков: Грабовского, Мельжинского, Дембовского, Круковецкого, Мясковского, Чайковского и многих других, принявших смерть и раны за нашу свободу. Будем же достойными нашего назначения, покажем, что мы одной крови с другими поляками, докажем неотложным исполнением предначертаний правительства, установленных для нашего счастья, благодарность избавителю и любовь к Отечеству!