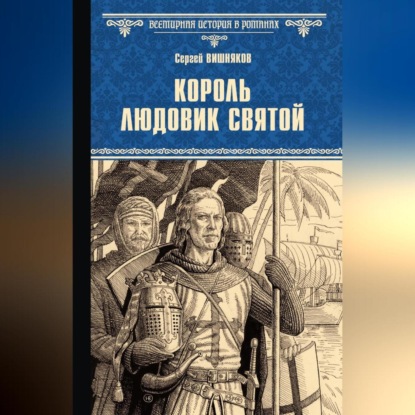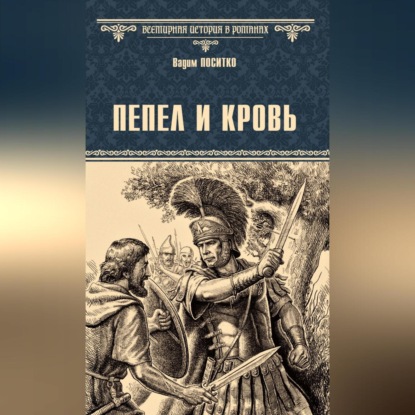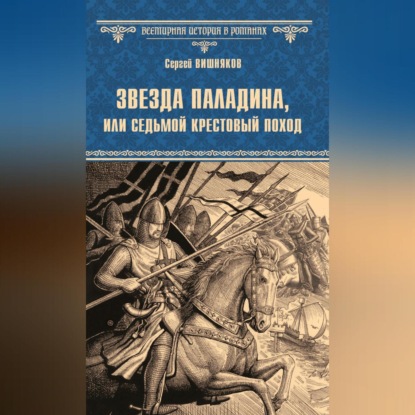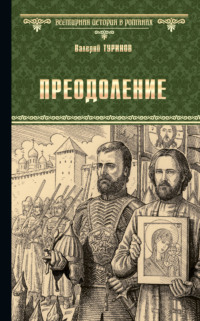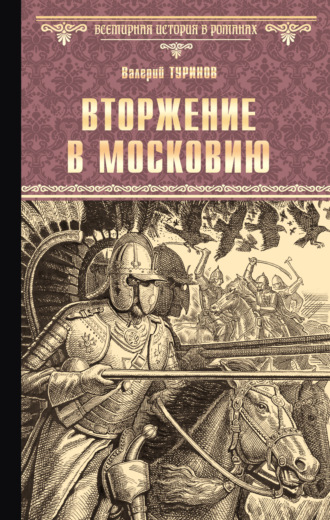
Полная версия
Вторжение в Московию
Тяжело, голодно было в осаде…
Нагиба вошёл с Заруцким в воеводскую избу и добродушно подтолкнул его вперёд: «У Корелы правой рукой был!»
– Нет нужды говорить каков! – сказал Шаховской.
– Знаю, знаю этого атамана! – откликнулся Телятевский. – Ещё под Кромами помню!..
Князь Андрей Андреевич Телятевский был уже не так и молод. Его, боярина, занесла смутная пора к мятежникам, во главе которых встал его бывший боевой холоп Ивашка Болотников. Его дед-то так и проходил до конца своих дней среди малопородных думных дворян. Да и отец тоже не выбился в боярство. И ему досталась в родословие захудалая ветвь тверских князей. Вот выправлять-то её он и подался в опричнину, из-за чего и повязался родством с Годуновыми. Много чего было, много пережито. А вот до сих пор горит борода, за которую его таскали казаки, когда им, мстя по местничеству, выдал его Петька Басманов, когда стал правой рукой Юшки Отрепьева. Вот с тех пор он и закусил удила. И понёс! А куда? Да всё равно куда…
Болотников подошёл к Заруцкому, дружески обнял его за плечи.
– Заруда, надо найти царя. Непременно! Сам видишь – нужна помощь. Долго не высидим. Пойдёшь в Стародуб. Слух прошёл: там, мол, Димитрий объявился!
Он, Болотников, был чем-то похож на него, на Заруцкого, но выглядел тяжелее, массивнее. И его рука была тяжёлая, что Заруцкий почувствовал сразу же, как что-то мешающее, лишний груз на плече.
Болотников взял у дьяка столбец[31], перетянутый шёлковым шнурком и запечатанный печатью.
– Вот грамота великому князю Димитрию Ивановичу, – подал он её Заруцкому. – Передашь лично в руки царю. И никому иному! Ясно?
– Да, атаман! – ответил Заруцкий, и его голос дрогнул; в его устах «атаман» звучало верной похвалой, уважением умения и стойкости.
Болотников понял это, обнял его ещё раз на прощание и подтолкнул к двери: «Иди, атаман, иди! С Богом – до царя!»
– Мы уходим сегодня ночью, – сказал Заруцкий Бурбе, вернувшись от Болотникова в свой стан. – Подбери для этого казаков.
Заметив тоскливое выражение на лице своего старого куренного товарища, он догадался о его причине, ухмыльнулся, хлопнул его по спине: «Да не горюй ты! Найдём тебе ещё убогого!»
Бурба посмотрел на него: жалостливо, злобно – и отвернулся. Переживал он смерть Кузи, убогого. Смахнул того саблей один из боярских сынишек, ворвавшихся в стан под Коломенским, зимой, когда Скопин здорово побил их.
Заруцкий никогда и никого не жалел. Не знал он, что это такое. Вытравили из него её, всю жалость. А вот с Бурбой было сложнее. Привязался он к нему за многие годы удачливой воровской фортуны. И сейчас, чтобы не раздражать его перед опасной вылазкой, он заговорил о деле.
– Болотников велел найти царя. Повезём вот эту штуковину. Возьми, береги пуще жизни, – сунул он ему грамоту, чтобы тот понял, как он доверяет ему.
Бурба взял столбец, повертел в руках, рассматривая чёрновосковую прикладную печать с двуглавым орлом.
– Потом, потом разглядишь! – заторопил Заруцкий его. – Будет время! Беги за казаками! Уйдём до рассвета, пока стоит непогода!
– Куда сейчас-то? – спросил Бурба, пряча грамоту в кожаный мешочек, висевший под рубахой поверх креста.
– Перво-наперво – в Стародуб. Кто-то там Димитрием назвался. Ну, раз так, тогда он нам и нужен. А если не тот – подадимся в Северу. Андрюшка-то Телятевский верно говорит: сейчас царь любой сойдёт, потом-де разберёмся, кто таков. А ныне народишку нужен колена Грозного. В него только и верят…
Тёмной дождливой ночью в конце августа крохотный отряд донцов покинул стены города, просочившись в вылазные потайные ворота под глухой башней. Казаки крадучись обошли заставы рязанского полка Лыкова и ушли из кольца окружения. Коней Заруцкий добыл этой же ночью, отбив их у зазевавшихся табунщиков своего старого приятеля Прошки Ляпунова. При этом он не упустил, зло позубоскалил с Бурбой, что вот, дескать, наказали того, умного-то.
Вот так и оказался он, Ивашка из Заруд, в Стародубе, у нового самозваного царя.
Глава 4. Поход и первые неудачи
Через неделю после той сшибки на дворе Заруцкого вызвали к царю, в его хоромы. В горнице у царя, когда он вошёл туда, уже были пан Меховецкий, Будило и дьяк Пахомка. Сидел там ещё какой-то подьячий, бочком на лавочке, смущённый такой для него честью.
«Да, тот самый, робкий», – узнал Заруцкий его. Мгновенно схватывал и запоминал он лица, хотя бы и видел кого-нибудь мельком.
Тут же, в горнице, на крохотной детской скамеечке в углу, ютился любимец царя, Петька, шут. Но сидел он тихо, не кривлялся. Он, обычно серый, сейчас пожелтел, как золотушный стал, лицо перекосилось, как будто опечалилась одна его уродливая стать, другая же застыла в ухмылке едкой…
Заруцкий отвернулся от него. За свою, в общем-то, ещё короткую жизнь он уже нагляделся на вот таких, с болячками, несчастных и убогих. На них взирал он равнодушно, не удостаивал их даже отвращением. Он любил здоровую плоть, его кумиром было тело сильное.
«Опять!» – мелькнуло у него, когда он догадался, что у шута случился очередной припадок.
О том, что шута преследует падучая, знали все, весть разносили шёпотом, опасаясь гнева государя.
Войдя и всё это мгновенно схватив, он поклонился царю: «Государь, ты звал?»
– Садись, атаман! – велел тот ему и жестом показал на лавку, как раз напротив себя, рядом с дьяком Пахомкой, который ходил у него в думных.
Честь эта, как понял Заруцкий, не разошлась с его словами, брошенными вроде бы с азарта после сшибки на дворе.
– По тебе место, и сидеть тебе отныне в моём совете! – сказал Матюшка.
На его гладком, чисто выбритом лице скользнула тонкая улыбка. Он, как оказалось, сбрил почему-то свои колючие усы.
«У того-то ничего не росло! Как у бабы или азиата!» – мелькнуло у Заруцкого помимо его воли о первом Димитрии…
– Рад служить, государь! – отозвался он, приложил к груди руку и по-казацки вольно уселся на то место, куда указал царь.
– Поспешить бы тебе, атаман, на Дон, – теперь заговорил пан Меховецкий; он ведал у царя войсковыми делами. – Приводить вольных казаков под руку царя Димитрия, – наклонил он голову в сторону Матюшки. – Служить государю истинному, природному, за великие оклады! – и снова поклон ему, Матюшке.
– Пахомка, пиши грамоту! – повысив голос, распорядился Матюшка, заметив, что дьяк задремал, ещё не отошёл от вчерашней пьянки.
«Один пьёт каждый день, другой упорно лезет вперёд и поучает, как девку!» – с неприязнью подумал он о Меховецком. Но ничего не отразилось на лице его. Он уже научился держать язык за зубами, скрывать мысли и ждать, ждать своего часа.
В тот день он отпустил атамана. И Заруцкий ушёл со своим крохотным отрядом казаков на Дон.
А на другой день после Дня Акимы и Анны и сам Матюшка покинул Стародуб, покинул без сожаления. Ничто не дрогнуло в его груди. Он покинул его так, как покидает честолюбец свои родные места, желая лишь одного: чтобы забылось всё прошлое его, чтобы он был для людей тем, кем он хочет стать. С ним было войско, правда, небольшое, всего три тысячи всадников: кучка гусар с Меховецким и Будило, служилые казаки из Стародуба и иных городков, где признали его власть. Стрельцов немного было у него. Боярских же детей считал по пальцам он. Но все они, воинственные и решительные, на совете выбрали гетманом пана Меховецкого. И смело двинулись они на захолустный город окраинной Московии, на маленький и слабенький Почеп. Там встретили их горожане хлебом-солью. А на День Архангела Михаила направились они дальше, к Брянску.
На ночь войско встало лагерем. Матюшке с вечера не спалось. Всё терзали мысли, переживания, сомнения: как встретит его первый большой город… В палатке у него обычно спали два комнатных холопа, каморники, два сторожа его. Он не держал ночью при себе даже шута: тот стал надоедать ему. Но нет, не разлюбил он Петьку, тот веселил его по-прежнему в часы досуга. Хотя всё чаще проводил он время в перебранках с Пахомкой и его бабой Агашкой. Ту присылал тот на ночь к нему. А он не в силах был уже отказаться от неё… И что ни день, то заявляются к нему его полковники. То одно у них, то другое: издай указ, пошли куда-то дьяков и подати немедля собирай, корма для войска…
– Откуда, государь, возьму я всё это! – хватался Пахомка за голову. – И так отписками одними сыты! Воруют, великий князь, городовые воеводы, верные твои холопы!
Но больше всего любил он гарцевать перед войском: осматривать свои полки на марше…
И только-только он заснул было, как кто-то потряс его за плечо… И тихий голос вошёл в его дремотное сознание, как будто опять притиснулась к нему горячая Агашка, дыханием обдала жарким, невыносимо нежно. И он, привыкший к одним лишь грубостям, перевернулся на спину и потянулся к ней, чтобы ударить…
– А-а!.. Что-о! – вскрикнул он и очнулся, как после обморока. – Иди ты!.. – выругался он, подумав, что это она донимает его своими ласками.
– Государь, государь! – затормошил Пахомка сильнее его, когда он опять чуть было не заснул.
Матюшка открыл глаза и увидел рядом с постелью дьяка со свечкой. А у входа в палатку, у полога, виднелись ещё две или три фигуры. Он узнал своего гетмана, полковников… Он вздохнул, чтобы унять дрожь, ударившую под сердце от внезапного пробуждения, чувствуя во всём теле тяжесть от дальнего перехода. Весь этот день он не слезал с коня. Вместе с Меховецким он носился по колонне из головы войска в хвост, ругался, подгонял отставших. И в конце дня, вечером, еле сполз с седла, плюхнулся на ноги, задрожавшие в коленках, и проковылял до шатра, который уже поставил бараш[32] с обозными холопами.
Он поднялся, натянул порты и сунул в сапоги ноги. Запахнувшись в стёганый кафтан, он поёжился от ночной прохлады, что заползала в шатёр, хотя Пахомка отапливал его жаровней. Но кое-как то получалось у него. И, в общем-то, шатёр был сырой и неуютный. Он сел на складной походный стульчик и пригласил всех садиться тоже. Меховецкий и полковники уселись на лавку, к ним приткнулся Пахомка. И тут же оказался ещё какой-то незнакомец, по виду служилый русский. Он тоже сел на табуреточку, но скромно, поближе к выходу из шатра.
– Что у вас? – спросил он ночных гостей, играя недовольным голосом, а больше властью, обращаясь в первую очередь к своему гетману.
– Гонец из Брянска! – показал Меховецкий на незнакомца. – Михаил Кашин напал на крепость: за то, что целовали крест тебе. Сжёг! Сейчас уже бежит обратно к Шуйскому!..
Матюшка глянул на своего всезнающего дьяка.
«Кто таков?» – прочёл вопрос Пахомка на его лице, но не удивился этому. Его, Пахомку, невозможно было удивить, смутить, загнать в тупик, где не знал бы он ответа… «Ну, у царя, должно быть, пропала память! Бывает!»
– Князь, из рода Оболенских. Воевода, верный слову, клятве, Богу и царю…
Матюшка помолчал, затем уставился на Меховецкого.
– Тебя что – учить, как поступать?! Догнать и наказать! Для этого не нужно поднимать меня среди ночи! Зачем притащили сюда вот этого!.. – выругался он и ткнул пальцем в гонца.
И тот поджался на табуреточке.
– Государь, ты же сам велел приходить к тебе по всем делам в любое время, – вибрирующим голосом промямлил Меховецкий, не глядя в сторону Будило и чувствуя, что тот презрительно пялится на него из-за того, что он терпит такое, хотя бы и от царя.
– Выполняй, выполняй, пан Николай! – сбавив тон, снисходительно сказал Матюшка ему. Но желчно всё же сказал он.
Он выпроводил ночных гостей из шатра, дал нагоняй Пахомке, чтобы и тот думал тоже, прежде чем пускать к нему кого-то. Натыкаясь на комнатных холопов, таращивших на него дремотные глаза, он заходил взвинченным по шатру, чувствуя, что не скоро уснёт. Ещё раз обругал Пахомку, когда тот заикнулся было, что, может быть, прислать ему Агашку.
– Да иди ты с ней к!..
Но наконец он всё-таки улёгся, чтобы хотя бы немного отдохнуть… «Проклятие!..» Завтра опять весь день придётся трястись верхом, гнать с войском быстрым маршем на Брянск.
Но они упустили время. Погоня за Кашиным не удалась. Будило так и не достал его, вернулся к царю. А тот уже расположился укреплённым лагерем в десяти верстах от Брянска, подле Свенского монастыря.
Матюшка встретил его едкими словами:
– Чтоб… твоя Matka Bozka![33] От тебя ушёл даже Кашин! Вы, поляки!.. Пить горазды да орать, что вот, мол, мы, гусары-молодцы!
У Будило, добродушного Будило, весельчака и забияки, пьяницы к тому же не последнего, глаза полезли на лоб.
– Гусары, Меховецкий и Будило уходят! – через какой-то час после ухода от него полковника доложил ему Федька Гриндин, крутой боярский сын. Он первым из боярских детей примкнул к нему, за это Матюшка сделал его думным дворянином и своим ближним.
– Ну и пускай катятся к…! – обозлился Матюшка и выругался по привычке.
Гриндин ушёл из его шатра. Но вскоре в шатёр бочком протиснулся Пахомка, всё осмотрел, в порядке ли, как обычно делал, следя за царским бытом. Затем он присел на сундук около входа и глухо кашлянул, словно был простужен.
– Ну что тебе? – не выдержал Матюшка его тянучки. – Зачем пришёл?
– Государь!.. Вот это… Не дело так… С кем воевать-то?.. Послать бы надо, за ними… Повиниться…
Пахомка попал в самую точку. Матюшка и так уже раскаивался, что круто поступил с полковниками. Сейчас же и сам хотел, чтобы кто-нибудь уговорил его вернуть гусарские полки.
В шатёр вошёл Гриндин, и тоже вроде бы случайно.
– Ладно! – стукнул Матюшка кулаком о стол, делая вид, что поддался доводам дьяка. – Гони, Федька! – велел он Гриндину. – За этими изнеженными панами! Уламывай, мол, государь то слово крепкое берёт назад и вины свои приносит!
– Слушаю, великий князь! – выпалил Гриндин, расплываясь улыбкой. Он, что таить, уже прочно сошёлся с полковниками, ходил у них в приятелях, надёжней, уверенней чувствовал себя рядом с такими воинами.
И он догнал гусарские полки уже вёрст за тридцать от Брянска, недолго объяснялся с полковниками. Те тоже дали уговорить себя. И он вернулся с ними на следующий же день.
У Свенского монастыря они простояли неделю, затем двинулись на день Покрова в сторону Карачева.
– Коли на Покров лист с дуба не чисто пал, знать, зима будет суровой. Ох, государь, суровой! – трясясь на коне позади Матюшки, заохал Пахомка, как древний дед, открывший в себе под старость тайны природы.
– Не каркай! – оборвал Матюшка его.
Позади него там же ехал и Петька, влив в седло горбатое и злое тело, и как мизгирь поводил холодными глазами.
– А ну-ка, Пахомка, отгадай! – пристал он к дьяку. – Стоит на одной ноге дурак – на нём колпак, кто мимо идёт, всяк поклоны бьёт! Ха-ха! Кто это?
– Кто, кто?.. Ты!
– Эх, Пахомка! А ещё умный!.. Гриб это!
Они, дьяк и шут, достойные друг друга, вели бесконечную вражду между собой из-за него, из-за царя.
– Перестаньте! – сердито прикрикнул он на них.
Пахомка проворчал себе под нос: «Бог дал попа, а чёрт шута!» – и замолчал.
Под Карачевым Матюшка был приятно удивлён: на службу к нему пришли несколько тысяч запорожских казаков. Они стояли лагерем, большим и шумным, на берегах тихой Снежети-реки. С такими силами он уже уверенно захватил Белёв и направился дальше, к Крапивне.
Крапивна. Димитрий устроился на воеводском дворе в крепости. А гусары и казаки стали лагерем под городом.
Уже и осень заявила свои права на жизнь, на всю округу.
Меховецкий вошёл в воеводскую избу к царю.
Матюшка же только что встал и выпроваживал от себя Агашку. А та, уходя от него, метнула жаркий взгляд на полковника и пошла, покачивая зазывно бёдрами. Матюшка заметил это и выругался вслед ей: «Ну, ты, стерва, я тебе… покажу, как …!»
Он захлопнул за ней дверь, подошёл к Меховецкому и покровительственно потрепал по плечу его, своего гетмана, своего «радетеля», как он мысленно окрестил его.
Меховецкий не удивился на эту вольность, но и не подал вида, что это неприятно ему. Он стал побаиваться его… «Только этого не хватало!» – с раздражением всплыло в голове у него как-то раз, но он не знал, что же ему делать теперь-то.
А Матюшка начал одеваться тут же при нём. Он натянул на себя свой старый кафтан, и такой поношенный, что тот же нищий кармелит выбросил бы его на помойку. Затем он подпоясался верёвкой, случайно попавшей ему под руку. Ну, точь-в-точь как крестьянин, когда подтягивает свой зипунишко ветхий.
Он сразу заметил, что гетман обеспокоен чем-то. И этим неспешным одеванием тянул время и видел, что тот изводится от нетерпения. Так он приучал его уважать себя.
Следом за Меховецким в горницу вошёл пан Будило и тоже выглядел серьёзным, что было необычным для него, беспечного, всегда навеселе гусара.
И тут же в горницу ввалился Пахомка. Ему, должно быть, сказала Агашка о гостях у царя. И он с порога забубнил о том, о чём тревожился и говорил всегда не к месту.
– Скорой зимы, государь, не жди! Слякоть, грязь будет до самой Казанской![34] На Лампея[35] рога у месяца кажут на полдень!
– Да оставь ты! – отмахнулся от него Матюшка.
– Государь! – заговорил Меховецкий с озабоченным как никогда лицом; таким он становился, если действительно происходило что-то важное. – Тула пала!..
Он мог бы не говорить больше ничего.
– Отступать немедля! – вдруг прорезался твёрдый голос у пана Будило. – Уносить скорее ноги! Пока им не до нас, не до погони!
«Как же так!» – пронеслось в голове у Матюшки. Он моментально забыл, что он царь, великий князь. Он был настроен идти на Москву, а тут приходится бежать из какой-то Крапивны… И страх, и жалость, и злость неизвестно на что-то – всё забродило в нём, противилось чему-то, тянуло к тому, что было впереди. Вот только, представлял он себе, нужно обойти Тулу, а там города сдадутся на его милость.
Страх взял своё, тот самый страх. Его, казалось, в нём не было уже давно. С тех пор как он поверил в каббалу, открыл смысл чисел, их тайну, гармонией повеяло нездешней на него, мир ясным стал. Нашёл он в нём и место для себя. Оно по праву его, открытие его, а не какого-то там Меховецкого… Сейчас не знал он, что каббала сулит ему, указывает или какими бедами грозит. Ох! а как это нужно было ему знать именно сейчас, сию секунду, каждое мгновение. Но нет времени разгадывать код тайных чисел. После Сёмина дня он сбился с чего-то и понял, что уже нельзя вернуться опять в начало.
Страх подстегнул их, и его полки бежали из-под Тулы. Скорее туда, на юг, в Орёл, затем и дальше покатились гусары, казаки, а к ним примкнули государевы служилые. Не знали только они, что Шуйский и не думал преследовать их. И там, по дороге, Матюшку бросили «зипунники», всё те же запорожцы, когда поняли, что ввязались в драку, а в ней добычи не видать.
В Орле его войско не задержалось. А город молча встретил их и так же молча проводил. Он ожидал грозы, на испытание готовился. Вот за Орлом они.
Непогода, слякоть, дороги все ужасно развезло. Телеги тонут по ступицу в грязи, обозные лошадки надорвались, не тащат их и падают несчётно.
«Накаркал, пёс!» – стал злиться Матюшка на своего дьяка, с его приметами.
И в этой мрачной гонке, похожей скорее на бегство, он избавился в какой-то деревеньке от лишних дворовых баб. Обоз облегчил. И среди них первой лишней оказалась его Агашка. Он не прощал измены, малейшего намёка на неё, сам всегда изменчивый, непостоянный.
– А как же я?! – вскричала, уставилась на него Агашка: глаза сухими, злыми были.
– Не пропадёшь! – отрезал он и отвернулся, забыл о ней.
От этого даже у Пахомки, циничного расчётливого дьяка, невольно дрогнуло сердце, когда он увидел лицо Агашки. Та провожала их уходящий обоз тоскливым взглядом собаки, которую прогнали с родного двора…
На следующей стоянке около глухой деревеньки, близ речки Неруссы, его дозорные привели в лагерь разъезд гусар. А следом подошёл целый гусарский полк.
– Самуил, ты ли это?! – воскликнул Меховецкий, увидев во главе этого полка ротмистра Тышкевича. – Какая нелёгкая тебя, дружище, принесла сюда! Ха-ха!
Тышкевич, молодой человек среднего роста, обычной наружности, соскочил с коня на землю и невольно присел на ногах, ослабевших от долгой верховой езды.
Меховецкий обнял его и оглядел, заляпанного грязью, усталого, но крепкого, с весёлыми глазами.
– Здоров, здоров! А я уже вспоминал о тебе!.. А как отец, пан Януш, придёт ли?
Самуил кивнул головой: «Да, придёт!»
И Меховецкий повеселел, впервые за последнюю неделю сплошного отступления, и сразу же потащил его за собой.
– Пойдём к царю!.. Но, чур, не удивляйся ничему. Наш новый царь с причудами! Не то что первый-то! Хм! – хмыкнул он и подмигнул ему по-свойски.
В этот день в шатёр Матюшки набились все начальные люди его войска.
– У меня семьсот гусар и две сотни пехотинцев, – сообщил Тышкевич, когда представился, и всё приглядывался неявно к нему, к Матюшке. Рассказал он ещё и последние новости из Польши. – Сюда на пути с полками Казимирский, Хрустинский и Вильковский. Да всех и не перечесть! И что же? С такой-то силой будем отступать! – насмешливо оглядел задиристый ротмистр полковников.
– А Рожинский собирается сюда? – спросил Меховецкий его.
– Да.
– Грамотку послать бы ему надо, – предложил Будило и почему-то метнул взгляд на Меховецкого.
– Полк, zwykły[36] к брани, у него есть! – восторженно поднял вверх большой палец Тышкевич. – Государь, не поскупись на грамотку ему!
– И как он? – спросил Матюшка и тоже почему-то взглянул на Меховецкого.
Тот опустил глаза, чтобы не видеть Тышкевича, и заворчал пренебрежительно:
– Похвалы пустой достоин он…
– Да нет же! – вступился Будило за Рожинского. – Нам всем такими быть бы на войне! Пока не распустил он гусар, пошли грамоту ему, государь, – обратился он к нему, к Матюшке, к тому, кому решать, а не Меховецкому же, хотя и гетманом он избран был. – Верю, он придёт к тебе!
Здесь, под деревней Лабушевой, они простояли лагерем неделю. Через неделю к ним подошёл ещё полк пана Валевского наконец-то, того Валевского, которого обещал прислать князь Адам. Меховецкий обнял его, затормошил, высокого ростом, с добродушными чертами лица, обрадовавшись больше других его появлению. Они были хорошо знакомы, когда-то он ходил с ним в походы.
– Мы стоим здесь недавно, а надо же, как повезло! Тышкевич, теперь ты, а может, следом ещё кто-нибудь идёт?
– Ну, ты, сиволапый, не так запоешь, когда узнаешь ещё весточку одну! Приятной, думаю, покажется!.. Matka Bozka! Как ты зарос! Бородища, что у московита! Ха-ха-ха! Сам архиепископ теперь наложит на тебя епитимию! Ха-ха!
– Да ладно, не тяни, выкладывай, что за сюрприз! Ты притащил сюда самого короля, «Селедку»[37]? Ха-ха!.. Вот это была бы новость, вот это было б диво! Кхе-кхе!..
– Не-е, не то! Подожди до завтра! Всё сам увидишь, старый Филин!
Его, пана Меховецкого, все, кто знал его близко, звали между собой Филином. Он был похож чем-то на того, и по ночам любил он резаться в картишки с ротмистрами, у которых денежки водились…
Прошло ещё два дня, и, к их удивлению, подошли ещё полки из Польши. А среди них объявился собственной персоной и князь Адам с конными. За ним полк привёл Мелешку, с полком был и ротмистр Хруслинский.
Князь Адам первым делом заглянул в палатку к Меховецкому.
Меховецкий не видел его всего каких-то месяца два и сейчас заметил, каким он стал подтянутым и бодрым. Не то что там, в родовом замке, где был подавлен, апатичен. Нахлынуло что-то на князя Адама после убийства первого Димитрия, и его, впечатлительного, подкосило. Сейчас же он выглядел помолодевшим, был свеж, румян, взбодрился в многодневном конном переходе, проделав в седле весь путь от своего замка до вот этого селения, затерянного в Комаринских лесах.
– Ты что же выпустил-то его из рук! – забрюзжал князь Адам, когда Меховецкий рассказал ему про войсковые дела. – Что здесь творится-то?!
– Я посмотрел бы на тебя, как бы у тебя-то всё получилось! – съязвил Меховецкий.
Он был раздражён. Его раздражал повелительный тон князя Адама. А теперь и вовсе, когда он стал гетманом и на него смотрело всё войско. Как же, послушаются его гусары, когда увидят, что их гетмана гоняет всякий, кому не лень.
– А вот сейчас ты сам попробуй-ка подступись к нему! Хи-хи! – прыснул он коротким смешком прямо в лицо князю Адаму, взирая смело на него.
Они поговорили, погорячились, а ближе к вечеру оба заявились в шатёр к Матюшке.
И там князь Адам повёл себя настороженно и осмотрительно.
Их Матюшка, тот самый мелкий воришка, сидел сейчас в царском шатре и пил вино, красный, распаренный после баньки. Её топили по два раза в день лишь для него, как только объявился он с лагерем около вот этой деревеньки. А подле него, тут же рядом, был его любимец, шут Петька. Тот сидел на ковре у ног его, серьёзным был, не шевелился почему-то.