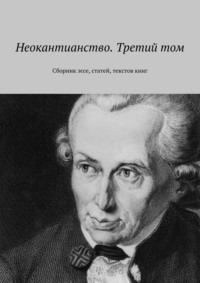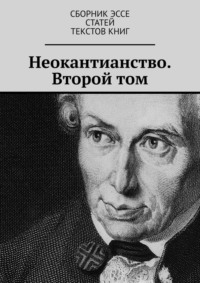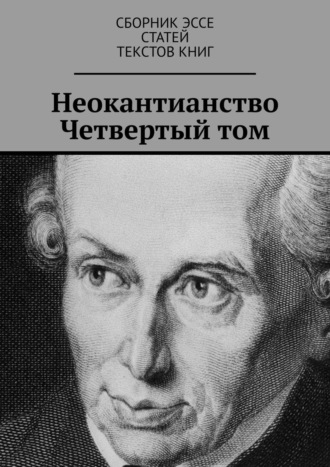
Полная версия
Неокантианство. Четвертый том
То, что через эти явления наше познание обращается к чему-то, что само не является представлением, – это «постоянное учение» Канта, но именно поэтому представление = моей идее, а не этому чему-то. Последнее не переходит в меня и само не становится представлением. Здесь не следует выдвигать слишком очевидный эмпирический контраргумент, что я никогда не смогу открыть новые тела, поскольку они лежат вне моего понятия до моего познания, а затем входят в него. В интерсубъективно-эмпирическом рассмотрении последнее утверждение верно, но только в нем. Ведь если я говорю об объектах между собой, то мне может прийти в голову множество новых; если же я говорю о простом отношении к объектам, то ничто, что по своей природе стоит вне этого отношения – а это и есть то нечто-в-себе – не может войти в него. «Вне нас» в трансцендентальном смысле означает вне отношения познания «я – объект». Там может «быть» многое, ибо нельзя утверждать, что все, что «есть», может быть познано. Могут существовать существа, которые смотрят на вещи четырехмерно; кто хочет опровергнуть это? Глупость спиритуалистов заключается не в утверждении возможности существования таких вещей, а в утверждении, что мы испытываем нечто подобное, что подобное может войти в наше отношение к чему-то, поскольку оно лежит вне всякого отношения знания к нам.
Если, таким образом, то, к чему познание обращается как к объекту, никогда не является объектом в активном сознании, а всегда лишь обозначается объективным представлением, если, конечно, объект, который мы представляем себе как вещь, находящуюся вне нас и независимую от нас, никогда сам не может войти в сознание, то возникает вопрос, как мы можем прийти к тому, чтобы обращаться к тому, что во всех отношениях находится «вне нас».
Этот вопрос решается просто тем фактом, который будет более подробно объяснен в следующей главе, что ощущения даны нам. Если бы то, что дает ощущение, также содержалось в активном отношении познания, оно должно было бы сознаваться в нем как то, что дает ощущение, ибо активное отношение есть сознание. Тогда познание сделало бы ощущения-содержания самими собой, и если бы они все-таки имели объективное значение, то они должны были бы быть приведены в качестве объектов просто в силу того, что они мыслятся. Но это потребовало бы интеллектуального восприятия, которого у нас, людей, нет, и которое мы можем приписать только «изначальному бытию». Но то, что мы знаем наши ощущения как данность, является самым неоспоримым положением учения о познании. Тот, кто хотел бы отрицать это, должен был бы, конечно, быть в состоянии утверждать, что ощущение обязано своим существованием не принуждению сознания, а своей собственной деятельности. Но ни один человек не может этого сделать. Мы знаем, что можем соотнести данные вещи только с предметами «вне нас». Но мы не знаем, кто их дает. Мы даже не знаем, что такое вещь-в-себе. Является ли она вещью, подобной нашим воображаемым вещам, является ли она одной вещью, существует ли их несколько, возможно, столько же, сколько мы признаем воображаемых вещей, находятся ли они в причинной связи друг с другом: обо всем этом, согласно учению Канта, мы вообще ничего не знаем.
Но Кант говорит о вещи-в-себе, о «вещах-в-себе», позволяет им существовать, быть причиной?
В этом отношении вещь есть лишь общее название для «чего-то», выраженного для нас в умопостигаемой форме.
«Как называется эта неопределенно мыслимая вещь – вещью-в-себе или вещью-в-себе, умопостигаемым или абсолютным – не имеет значения». («Арнольдт», «Пролегомены» Канта и т.д., стр. 46).
То, что «нечто» существует, несомненно. В трансцендентальном единстве апперцепции я также знаю, что я существую. Но есть разница, знаю ли я, что я существую, или знаю ли я, как то, что я существую. И когда Кант говорит, что существование не содержится в простом представлении о чем-то, нужно быть осторожным с маленьким словом «просто». Ведь «просто» думая, что что-то есть, или я есть, я еще не могу сказать, есть ли это «что-то» или «я». Но я говорю и то, и другое на основе реальных отношений. Поскольку я должен соотнести разумное содержание с чем-то, я могу сказать, что это что-то «есть»; поскольку я аналитически развиваю понятие Я из фактического отношения мысли (Kb 660), я могу сказать, что я «есть». Эти фактические отношения, а не «простые» мысли, делают меня уверенным в существовании.
Нечто является причиной! Но разве я тем самым утверждаю, что это определенное ощущение обязательно должно быть следствием определенного чего-то, например, выстрела из пистолета? Тогда я должен был бы иметь это «нечто» само по себе как идею во мне. Но только тогда я бы применил кантовскую категорию причины, которая связывает события с событиями. Но я не могу даже приблизиться к «чему-то», что должно быть причиной, поскольку оно находится за пределами моего познания, которое только ссылается на него как на нечто, но не может втянуть его в себя. Поэтому слово причина, как подчеркивает сам Кант, следует понимать здесь в совершенно ином смысле (Prol. §53). Оно означает не эмпирически установленную причину, которая сама по себе уже воображаема, а «нечто», что действительно является причиной ощущения, но из чего я не могу как таковой исходить, чтобы определить из него его следствие.
Однако у Канта, наоборот, все то, что делает объект объектом, находится во мне. Предмет по внешнему виду – это субстанция. Субстанция, однако, не есть нечто само по себе, а постоянное в восприятии. Реальное, соответствующее ощущениям, предполагается в пространстве. То, что во внешности содержит условие необходимого правила постижения, есть объект. После этого мы вдруг видим перед собой совершенно иной объект, нежели трансцендентальный объект, обозначающий это нечто. К трансцендентальному предмету мы должны отсылать наши представления, ибо он выражает тот факт, что ощущения даны нам. То, к чему мы обращаемся, само не находится в нашем познании; следовательно, оно не может быть рассмотрено и пространственно-временным образом определено в нем. Предмет же, который мы определяем как реальность, субстанцию и т.д., должен находиться в нашем познании и как таковой не может быть просто тем, к чему мы это познание отсылаем. Эмпирическая картина, из которой, конечно, нельзя вывести никаких дальнейших следствий, может прояснить этот факт и в то же время помочь еще раз понять фундаментальное различие между интерсубъективно-эмпирическим и трансцендентальным наблюдением. Подумайте об изображении солнца в зеркале воды. Предположим, что я ничего не знал о реальном солнце, а знал только, что на поверхность воды падают отпечатки, которые дают мне образ солнца в воде. Как бы я должен был думать теперь, всегда предполагая, что я ничего не знаю о солнце на небе? С одной стороны, образ в воде сам по себе не является объектом в воде; он исходит от чего-то другого, о чем мы не имеем ни малейшего представления; но по своей форме он, тем не менее, также является предметом в воде и может рассматриваться как таковой. Так и здесь, похоже, я имею двойное объективное рассмотрение: образ солнца в воде как самодостаточный объект и его отношение к чему-то неизвестному. Большое принципиальное отличие нашего сравнения от того, которое оно призвано проиллюстрировать и которое невозможно сделать понятным с помощью какой-либо аналогии, заключается, конечно, в том, что из изображения солнца по отношению к окружающим предметам мы можем вывести природу и местоположение неизвестного, которое нам передает изображение, ибо то, что вызывает изображение, само может быть воображаемым и поэтому должно быть включено в цепь – эмпирических, т.е. т.е. объектов, которые что-то обозначают, как Леверрье вывел Нептун из образа возмущений Урана. Но вещь-в-себе, то, что является причиной моего ощущения, вещь, не видимая понятием, никогда не может сама стать ощущением или понятием, и поэтому ее нельзя искать и находить в цепи эмпирических объектов. Именно здесь возникает фундаментальное различие между интерсубъективным и трансцендентальным наблюдением. Только в этом отношении этот эмпирический образ может и должен также объяснять трансцендентальную концепцию, поскольку он предполагает, как необходимы два различных понятия объекта, в зависимости от того, думаю ли я об отношении существования моих идей к чему-то вне моего сознания, что их дает, или об отношении идей друг к другу к единому образу в сознании, – но который сам является объектом только потому, что обозначает это что-то. В последнем отношении то, что в облике содержит условие необходимого правила постижения, само есть объект, т.е. то, посредством чего это нечто объективно представляется. В этом же отношении верно и предложение: дать объект, т.е. представить его «непосредственно в созерцании», есть не что иное, как соотнести его концепцию с опытом. Если, конечно, считать, что здесь то, что обозначает трансцендентальный объект, втягивается в само представление, то можно выйти из путаницы не больше, чем если бы утверждать, что истинное солнце должно находиться под поверхностью воды, в или за изображением солнца, и что, поскольку можно измерить дно водоема, нельзя понять, где должно находиться истинное солнце и как возможно его созерцание через дно. Совершенно аналогичными, однако, являются возражения идеализма, с которыми боролся Кант, который сначала превратил идеи в реальные вещи, независимые от нас, а теперь не может понять, как они могут стать нашими идеями.
Таким образом, предмет по внешности – это лишь суммарное отношение понятий между собой к «чему-то». Только благодаря этому отношению объединенные понятия как бы сами становятся этим объектом; на самом деле они остаются понятиями, через единство которых я обозначаю это нечто. Для того чтобы это отношение могло иметь место, необходимо понятие трансцендентального объекта. В явление есть только отношение к неизвестному чему-то, но не само это что-то. Внешность всегда имеет две стороны: одну, согласно которой я мыслю объект как таковой, к которому я отношусь через внешность, другую, согласно которой я рассматриваю внешность этого объекта в соответствии с его формой. (ср. KB 64)
Когда человек постигнет «идею в целом», он уже не удивится, если я поставлю рядом следующие, казалось бы, противоречивые положения и буду утверждать, что, как только он разделит эмпирический и трансцендентальный смысл содержащихся в них понятий, они окажутся совершенно верными: Несмотря на то, что вещь-в-себе не находится в явлении, несмотря на то, что она не обнаруживается пространственно позади него, она, тем не менее, находится в каждом явлении и позади него как простое отношение к нему. Несмотря на то, что каждый вид обязательно связан с чем-то, через что дается его чувственное содержание, в виде вида нет ни малейшего следа чего-то, что можно было бы найти в виде, который сам не был бы видом. Первая из этих пропозиций выражает не что иное, как то, что содержание ощущения дано, а не создано сознанием, но вторая пропозиция совершенно тавтологически утверждает, что то, что не может быть в моем сознании, не может быть мне известно. – И Куно Фишер, надеюсь, не будет меня ругать, если я сейчас резюмирую обе, казалось бы, противоречащие друг другу пропозиции: То, что дает мне ощущение, есть не что иное, как сама вещь, на которую я смотрю. Ведь сама вещь, на которую я смотрю, обозначает нечто, воображаемое через внешний вид, и к какому же иному нечто, чем то, что дало мне материал для формирования представления об этом нечто, следует отнести это нечто? Тот факт, что я ничего не знаю о том, как выглядит это нечто, помимо этой моей идеи, ничего не меняет. Телесная концепция, в конце концов, обозначает для меня нечто.
Таким образом, чтобы окончательно объяснить предложение Пролегомены, представленное в предыдущей главе, тело означает не только внешний вид, но и «вещь в себе». Оно означает это, но не является этим. Теперь уберите эту идею, которой я обозначаю нечто! Является ли сам предмет теперь этой идеей? Или я все еще имею представление о том, что такое объект? Ни в коем случае! Я имею представление об этом объекте только через тело-идею, которое я обозначаю как «нечто». Но тела – это мои представления, посредством которых я представляю себе это нечто; поэтому «тела как явления внешнего чувства», то есть как телесные представления, не могут существовать вне моих мыслей как тела, равно как и то нечто, что лежит в основе этих представлений, не может проникнуть в меня и стать во мне представлением.
Наше познание лишь выражает наши отношения к этому чему-то. (Kb 72) Кант решительно подчеркивал это. То, что из этого следует, что мы не можем постичь «вещь-в-себе» в себе, что поэтому «внутренность» вещей остается для нас совершенно непостижимой, я считаю неопровержимым. Но вопрос о том, не обладает ли наше познание, поскольку оно содержит отношения к этому чему-то, средствами для определения отношений вещей-в-себе между собой по аналогии с их отношением к нам, этот вопрос Кант не рассматривал в отличие от вышеизложенного. Напротив, он практически отрицает его вместе с первым.
«Пространство не представляет никакого свойства одних вещей в себе или их в их отношении друг к другу» (Kb 54).
По его словам, даже множественность вещей-в-себе не обозначается множественностью вещей явления. Мы вообще ничего не знаем о вещи-в-себе, кроме того, что она дает нам ощущения, не будучи в состоянии сказать, как это возможно. (Kb 829) Существование «вещи-в-себе», с другой стороны, твердо стоит на позициях Канта и не может быть испарено в какие-либо факторы сознания или идей. Это будет показано далее самым очевидным образом из Канта. Однако, согласно ему, это отношение сознания к чему-то дается тремя способами. Сознание чего-то неопределенно в данном ощущении, рассматривается в пространстве, обобщается и определяется в виде понятия единства рассудка. Таким образом, это отношение является первым: дано через ощущение.
Примечания
1) Критика чистого разума (издание KEHRBACH = Kb.).
2) Пролегомены, 1-е издание (= Prol). Остальные произведения (W) Канта перечислены в соответствии с томом и номером страницы издания Розенкранца и Шуберта.
LITERATUR – Franz Staudinger, Noumena, Darmstadt 1884.
О фундаменте понятия опыта
Предисловие
До сих пор, как справедливо замечает Лаас, не достигнуто никакого результата в старом споре между эмпириками и ноологами. Как бы непримиримы они ни были на протяжении тысячелетий, противоположности, разделяющие Платона и Протагора, противостоят друг другу, и как бы часто ни предпринималась попытка решить спор путем посредничества, он заново начинался помимо воли сторонников. Так оно бушует и сегодня, несмотря на Канта. «Мы так же далеки от решения, как и сто лет назад. Мы должны начинать работу заново». (1)
Ничто, как кажется созерцателям, не является более определенным, чем «Я» с его идеями. Но эти идеи должны представлять «нечто», они сами не являются предметом, на который ссылаются. Конечно, я могу и саму идею сделать объектом своего созерцания, но тогда это происходит опять-таки посредством другой идеи. Таким образом, я могу представить себе «я», которое сопровождает каждую из моих идей, как объект. Но когда я устанавливаю эту связь, реальное воображаемое Я отступает, и это Я-понятие, «первоначальная» или «чистая апперцепция» Канта, остается сопровождать новое представление. Конечно, только таким образом можно достичь некоторого знания о внутренних состояниях «Я», но это Я не то же самое, что то, что только что думали, представляли (2). Я просто помню, что то Я, которое сейчас относится к своему предыдущему состоянию, стояло с этим Я в непрерывной связи сознания. Так что эти два состояния не совсем тождественны, а разделены временем и направлением воображаемой деятельности. Но одно я знаю точно по памяти: то, к чему относится мое нынешнее представление о Я, не есть пустой фантом, оно существует. (3) Теперь, конечно, я также знаю, что, когда у меня есть идея дерева «в фокусе сознания», у меня в уме не сама идея, а предмет, с которым эта идея должна соотноситься. Идея отношения неотделима от идеи как таковой. Конечно, иногда я ошибаюсь относительно конкретного характера отношений. Например, я считаю, что воспринимаю раздражитель через инородное тело, тогда как на самом деле внутреннее состояние кожи вызвало зуд, или переношу звук, доносящийся издалека, в соседнюю комнату и т. д. Такие отдельные ошибки отношений не имеют фундаментального значения. Но что гарантирует мне, что так же, как я могу установить отношение к своему собственному «я» не только в отдельном случае, так и такое отношение к другому, нежели это «я», является действительным вообще? Не слишком сложное наблюдение показывает мне, что все объекты находятся в одном и том же Я, в одном и том же моем представлении, и показывает мне, что кроме этого Я и этих представлений нет ничего, к чему я мог бы отнести последнее. Это отношение к другому явно присутствует, но, по-видимому, не имеет никакого фактического основания. Значит, я должен отнести все представления в последней инстанции к Я и игнорировать это непосредственное отношение к предметам вне Я как ошибочное? «Мир – это наше воображение!» Это восторженное восклицание Шопенгауэра было бы тогда полностью на своем месте.
Можно ответить следующим образом: Отношение воображения по своей природе является отношением к чему-то другому, даже если мы знаем, что это другое по памяти тождественно воображаемому Я. Без такого представления мы никогда не сможем встретиться с ним. Таким образом, кажущаяся непосредственность отношения, которое имеет к себе вспоминающее представление, основывается на предшествующей воображающей деятельности Я. Но эта предшествующая воображающая деятельность Я как представления обязательно представляет собой отношение к чему-то отличному от этого Я, и если это должно было относиться к какому-то более раннему состоянию Я, то в какой-то момент этому предшествовало представление, относящееся к чему-то отличному от Я. Но эта концепция, поскольку она не обращается к предшествующему «я», действительно является прямым представлением о чем-то независимом от «я»; и кажущаяся моментальная достоверность этого отношения к «я», а значит, и понятие «я», таким образом, основывается на еще более моментальной достоверности отношения к чему-то вне «я».
Этот ход мысли, который, если опустить все подходящие для школы аксессуары, мог бы отражать основную идею опровержения идеализма Кантом, кажется, однако, основательно развенчивает последний, показывая ему, что его обращение к Я предполагает это отношение к Другому. Но это только кажется. Ведь совсем не сказано, какая реальность тем самым гарантируется этому «другому», и прежде всего не указана точка сознания, где Я, несомненно, сталкивается с чем-то чуждым ему. Правда, я никогда не возьму в сознание самого чужого, самого транссубъективного мира, но, согласно превосходному сравнению Ф. А. Ланге, мне все же удастся подойти к берегам этого мира, достичь достоверности реального отношения к нему и осмелиться сделать некоторые выводы о его природе. Действительно, в вышеприведенном вопросе кроется основной вопрос философии, как открыто, так и скрыто, на протяжении тысячелетий. Является ли теперь необходимость мышления тем, что создает такие отношения? Тот, кто с самого начала разделяет мышление и чувство, должен дать такой ответ: оно не может заключаться в простом пассивном чувстве. Для мышления необходимо каким-то образом сделать вероятной реальную связь с потусторонней реальностью. Однако после тысяч попыток возможность достижения подобного оказалась крайне маловероятной; от этого пути все чаще отказываются и пытаются решить вопрос эмпирически. Но вместо того, чтобы подойти к источнику и спросить, возможно ли принять пассивное ощущение, большинство людей пытаются достичь цели путем мыслительной обработки не связанного с воображением материала ощущения. Тогда на вопрос отвечают, что нужно верить во внешний мир, или же обращаются к феноменалистическому идеализму, который довольствуется миром идей, приведенным в контекст, если не впадают в полностью трансцендентальный идеализм. То, что в двух последних случаях совпадение человеческого опыта, взаимное общение человеческих существ, более того, само их существование, сильно запутывает предполагаемое единство представлений, и что возникающие противоречия могут быть устранены только возмутительными допущениями, гротескными несоответствиями или политикой страуса, упускается из виду. Вопрос о факторе сознания, с помощью которого отношение к внешнему миру, фактически лежащее в наших представлениях, может быть приведено в гармонию с согласованностью самих представлений, не может быть отвергнут в конечном счете.
I.
Противопоставление платонизма и эмпиризма неоднократно сводилось более поздними априористами к почти чисто формальному различию, тем самым затушевывая основную проблему. Речь идет не о том, является ли разум просто восприимчивым и изобразительным или нет. То, что дух активно вмешивается в формирование содержания представленного ему представления и формирует его по своим законам (4), спокойно признает даже самый крайний сенсуалист; он, возможно, добавит, что даже так называемое предоставление этого содержания немыслимо без активного участия духа; он также не будет отрицать, что способ мышления духа должен проявляться в представлении объектов. Но априорист хочет большего. Почему Платон перед носом Протагора уже выдвинул требование безошибочной истинности реальности некоторых общих понятий, которые не могут быть выведены из опыта, собственного разума и т. д. (5)? Можно спорить о том, верны ли в деталях причины, приведенные Лаасом (6), но факт остается фактом: платонизм не удовлетворяется этой деятельностью духа. Ему нужна деятельность, которая не просто обрабатывает, но производит себя; разум должен не просто понять и осмыслить то, что ему дано, но сначала наложить на это данное нормативную печать. В этом же заключалась суть полемики, которую платоник Лейбниц вел против Локка две тысячи лет спустя.
Только отрицание этого утверждения о том, что разум сам производит познания объективного содержания, содержится, насколько мы понимаем, в оспариваемом Локком рассказе о душе как tabula rasa. Чувственные объекты, конечно, действуют в последнем ряду (LOCKE, Essay II, 1, 3), и то посредством «импульса» и «движения» (II, 8, 11. 12). Но душа сравнивает, соединяет, разделяет (II, 11, 4f) – это все действия, которые возникают не просто в размышлении над опытом, но уже в формировании опыта. Да, сам этот опыт в значительной степени исходит от «Я». Идея силы может (II, 21, 4) стать понятной только через созерцание собственной деятельности души, а не через чувственное созерцание. Она составляет (II, 23, 7) значительную часть составной идеи субстанции. Это, конечно, лишь колеблющееся предположение неизвестного, то есть того, что мы не можем представить себе ясно и отчетливо (I, 4, 18; II, 23, 2. 3). Однако, поскольку даже оппонент Локка Лейбниц (7) вместо локковских «способностей», которыми наделен наш разум (IV, 10, 1), фактически устанавливает лишь «предрасположенность», истины рефлексии, которые нужно найти, то на первый взгляд разница не кажется такой уж большой. Более того, в трансцендентальном основном вопросе он также соглашается с Локком, который, например, хочет вывести Бога из этих «способностей» с математической уверенностью. Последний выводит Бога из эго, по тому же принципу, по которому его уже вывел Картезий (8). То, что Лейбниц ввел в свои «Новые эссе», было сомнением в прочном основании реальности вообще.
Для Локка наше знание реально постольку, поскольку существует соответствие между нашими представлениями и реальностью вещей (IV, 4, 2). Однако для Локка это соответствие не может быть гарантировано. То, что «обязательно должно быть продуктом вещей, действующих на разум естественным образом» (IV, 4, 3), не является, по сути, доказательством реального отношения. Теперь, поскольку все ментальные принципы должны быть построены на этом основании, поскольку некоторые истины, которые отличаются от других своей всеобщностью и необходимостью, не находят независимого принципа выведения; поэтому для Лейбница, который в этом пункте действительно копает глубже, чем Локк, должно быть сомнительным, могут ли такие истины «быть выведены из опыта, т.е. из индукции, и естественным путем». т.е. из индукции и примеров» (9); более того, он должен спросить, не являются ли они, поскольку размышления высвечивают различные интеллектуальные идеи, в конечном счете, просто «вниманием к тому, что мы уже носим в себе». Сама уверенность опыта становится сомнительной, если отсутствует эта реальная связь. Откуда это следует? Истинным критерием реальности является, как уже у Декарта (10), только связь явлений и их (веро-) истинность, основанная на истинах разума (11), согласие которых затем, однако, устанавливается совершенно метафизическим образом через предварительно устойчивую [prefabricated – wp] гармонию. Таким образом, Лейбниц, вероятно, задумал проблему глубже, чем Локк, но отодвинул решение в область самых утонченных трансцендентальных спекуляций и в основном отрицал его для опыта.