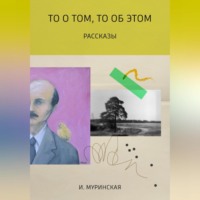полная версия
полная версияМартин М.: Цветы моего детства
Пение горлицы
Мартин не сразу понял, отчего возникло в нем чувство, которое невозможно описать никакими словами – как отчетливое, но совершенно абстрактное воспоминание о некотором фрагменте сна, которое могло завладеть им на несколько мгновений и уйти, не оставив после себя ничего, кроме изумления. Лучшие моменты всегда были заключены для него между возникновением ощущения и осознанием, чем оно вызвано. Это ощущение было вызвано пением горлицы. В городе К. он никогда его не слышал. Зато много раз слышал у бабушки, к которой они больше не ездили, так как она умерла вскоре после матери – своей дочери, и теперь слышал здесь, на морском побережье. Он тогда не знал ни названия этой птицы, ни того, как она выглядит. И ее пение никогда раньше ничем его не привлекало. Но теперь, когда все то, с чем оно было связано, достаточно отдалилось от него, Мартин не мог представить себе более волнующего звука. Каждый день он искал его, и каждый раз, когда находил, испытывал такой тонкий душевный трепет, что не мог поделиться им даже с Фи, который тоже был здесь. Они ночевали в одной комнате, на двухэтажной кровати, Мартин на верхней полке, Фи на нижней. По ночам он слышал его мирное дыхание, когда засыпал, а днем на пляже они вместе искали ракушки и красивые гладкие камни. Это было хорошо, но не шло ни в какое сравнение с пением горлицы в тени сосен. Мартин вспомнил и другие звуки: звон цепи, на которой сидел бабушкин пес Джек, отдаленные петушиные крики перед рассветом, стук тяжелой калитки, жужжание бронзовок, перелетавших с цветка на цветок, протяжное «Молокоооо! Сметаааааана!» под гул медленно передвигающегося по улице грузовика. Перед ним сверкало море, на краю длинного пирса виднелся полосатый маяк. Но Мартин думал о пирамидальных тополях, покрытых пылью, сухой, не такой как здесь, жаре, от которой черные крыши сараев раскалялись и годились только для того, чтоб сушить на них яблоки, об угольных дорогах, из-за которых на пятках оставались черные трещины до самого октября, и о голубых елках, росших перед самым высоким зданием города Н. в три этажа.
Госпожа Петра
Урок английского начался как обычно. Примерно полкласса встало, чтобы поприветствовать госпожу Петру. Вон сильно ударил Слепую Марию ногой в пах, когда она нагнулась, чтобы подобрать тетрадки, которые сбросил с парты Габриэль. Слепая Мария покраснела от боли, но не извлекла никаких звуков, надеясь избежать дальнейших унижений. Вон и Габриэль громко заржали, а госпожа Петра вытянула шею в знак того, что она их слышит, видит и не одобряет происходящего. Дальше этого ее воспитательные приемы почти никогда не заходили.
Госпожа Петра была самой молодой учительницей в их школе. Необычным был не только ее возраст. Казалось, она так и не смогла войти в свою роль, как другие учительницы и учителя – в ее голосе никогда не звучало тех особых металлических нот, которые требовались для сохранения порядка в классе. Напротив, ее голос был тихий и мягко шелестящий, как луг из высокой травы ветреным летним днем. Выглядела она соответствующе – длинные русые волосы окаймляли ее кроткое овальное лицо с маленькими драконьими ноздрями, которому она в минуты кризиса безуспешно пыталась придать более решительное выражение.
Мартину давно хотелось спросить Фи, жалко ли ему Слепую Марию и госпожу Петру. Продемонстрировать такие чувства открыто было бы делом необычайным. Не принимать участия в травле, не изводить учительниц и учителей было уже довольно опасно, и Мартин мужественно принимал этот риск. Но ему казалось, что этого недостаточно. Ему было совестно оттого, что он не заступается за несправедливо обиженных. Однако и они за него никогда не заступались, когда его несправедливо обижали, и эта мысль его немного успокаивала.
Госпожа Петра была Слепой Марией из учительниц. Даже самые тихие, во многих случаях совсем не злые ученицы и ученики не считались с ней. Ее голос тонул в гаме всеобщего веселья во время всех ее занятий.
Мартин вспоминал ее первый урок. Разумеется, когда она появилась, прозвучало несколько унизительных звуков и комментариев по случаю ее молодости и половой принадлежности. Но по-настоящему невыносимым в этой истории был энтузиазм на ее лице. Она в самом деле верила, что доброе отношение и продуманная метода принесут здесь какую-то пользу. Мартину тоже хотелось в это верить, но уже в тот первый момент, когда она возникла перед ними со своим кротким воодушевленным лицом, ему стало тяжело и больно за ее горькое разочарование в самое ближайшее время. Заниматься на ее уроках едва могли даже те немногие, кто пытался это делать, из-за постоянного шума в классе. И госпожа Петра была вынуждена с этим примириться.
Но сегодня энтузиазм по какой-то неведомой причине к ней вернулся. Наверно, она прочитала накануне какую-нибудь вдохновившую ее книгу, подумал Мартин. Даже Вон и Габриэль на несколько минут забылись и притихли в лучах ее улыбки победительницы. Но уже ко второй четверти урока все вернулось на свои места, и голос госпожи Петры был снова с трудом различим на фоне полногласных возгласов и смешков. Однако в этот раз учительница не хотела с этим мириться. Она как будто решила во что бы то ни стало не провалить больше ни единого урока. И одним вытягиванием шеи в сторону источников безобразий в этот раз не ограничивалась. А класс, в противовес ей, особенно разошелся. Через парты летали жеваные бумажки, застревая в волосах Слепой Марии и вызывая шквал веселья. Воздержавшиеся от этой забавы громко обсуждали не имевшие отношения к уроку английского дела. На госпожу Петру почти никто не обращал внимания. Некоторые все же приумолкли, когда она, возможно, впервые в жизни, слегка повысила свой мягкий голос. Но в целом ничего не изменилось. Мартин видел, что она в отчаянии. Обычно в таких ситуациях учительницы и учителя грозили выгнать самых буйных нарушителей. Но госпожа Петра сделала по-другому.
– Если вы не успокоитесь, я уйду.
Ухмылок с большинства лиц это заявление не стерло, но многие были удивлены. Парта Вона раскачивалась как шлюпка, попавшая в шторм. Госпожа Петра вышла так тихо, что последние парты даже не сразу это заметили. Мартину было стыдно, грустно и тоскливо. Ему показалось, что когда она уходила, в ее глазах стояли слезы. В классе стало почти тихо. Все сидели на своих местах в замешательстве и ждали, что случится дальше. А дальше случилось невероятное. Фи встал и тоже вышел за дверь. За ним никто не последовал. Через минуту он вернулся вместе с госпожой Петрой. Мартин никогда не спрашивал, что он ей тогда сказал. До конца урока в классе сохранялась поразительная тишина, в которой было прекрасно различимо каждое шелестящее английское слово госпожи Петры.
Кошмар
Мартину снилось, что госпожа Лилия, новая подруга отца, протягивает ему с улыбкой маленькую дамскую сумочку, расшитую стеклярусом, и предлагает поместить в нее шифоньер из их гостиной. Он не знает, что ответить и как разрешить эту ситуацию, так что она длится бесконечно долго и кажется как-то связанной с картиной, на которой у слонов длинные тонкие ножки. А потом шифоньер вместе с сумочкой превращаются в огромную фигуру с кожей человека, но без лица и только с отдаленно напоминающими руки и ноги конечностями, скрученными и перепутанными между собой. Мартин смотрит на эту фигуру и одновременно сам является ею, он страдает, но не от боли, а чего-то такого, чему нет названия, и только предложение госпожи Лилии поместить шифоньер в маленькую дамскую сумочку могло бы описать это страдание.
Когда Мартин проснулся, он продолжал ощущать его, и не знал, куда ему от него деться. Он встал и пошел на кухню, выпил немного воды и прильнул лбом к прохладному оконному стеклу. Лампу он не включал, так что в слабом голубоватом свете нескольких фонарей были отчетливо видны турники и качели на площадке перед их домом. Мартин попытался представить, как днем он с Фи кувыркается вокруг этих турников; всего было два способа кувыркаться – вперед через пояс и назад через колени. Или как Клелия ищет их по всему двору, пока они сидят в канаве позади дома (играют в прятки). Ему стало легче от этих мыслей, хотя все это и казалось ужасно далеким, а качели с турниками выглядели сюрреалистично и даже зловеще. Он не мог заставить себя вернуться в постель, и к нему пришла отличная идея. Он закрыл на кухне дверь, чтобы никого не разбудить, зажег лампу, поставил на огонь чайник и включил телевизор. Следующие несколько часов он смотрел рекламу и очень странный фильм. Он был про женщину, которая любила наряжаться в экстравагантные наряды и, возможно, была как-то связана со смертью своего брата. И про мужчину, который случайно провел с этой женщиной ночь, а потом и день и так и остался жить в ее доме, представлявшим из себя промежуточный вариант между старым дворянским гнездом и современной дизайнерской виллой. Обои в этом доме были исключительно розового цвета, из стен прихожей торчали такие же розовые свиные головы, а ужин подавали за таким длинным столом, что сидевший с одного его края не мог различить лица сидевшего с другого. В каждом новом кадре на женщине менялись наряды, в основном пышные длинные платья, похожие на те, что девушки в его городе надевают на выпускной бал. Было совершенно неясно, задумывался ли этот фильм как комедия, или мелодрама, или триллер, или детектив или что-то еще. Нельзя сказать, что все эти жанры были в нем одинаково сильно выражены. Скорее ни один из них не был выражен почти никак. Мартин был уже достаточно искушен и понимал, что это «плохой» фильм. Гораздо позже он будет специально отыскивать такие «плохие» фильмы и смотреть их, наслаждаясь чувством безопасности, которое они ему внушают, а также испытывая вдохновение, подобное тому, которое открылось ему при виде зазора с мусором на грязной городской лавочке. Он вообще будет много чего смотреть. Банальные фильмы про любовь, небанальные фильмы про любовь, фильмы про дружескую любовь, фильмы про несчастную любовь, фильмы про счастливую любовь, фильмы про запретную любовь, фильмы про смерть, фильмы про смерть от любви, фильмы про смерть без любви, фильмы про спасение от смерти, фильмы без спасения, фильмы без смерти, фильмы о красивых людях в красивых костюмах с красивыми вещами, фильмы о смерти среди красивых костюмов и красивых вещей, фильмы о любви среди красивых костюмов и красивых вещей, фильмы о любви и смерти среди красивых костюмов и красивых вещей, фильмы о некрасивых людях в некрасивых костюмах с некрасивыми вещами, фильмы о смерти среди некрасивых костюмов и некрасивых вещей, фильмы о любви среди некрасивых костюмов и некрасивых вещей, фильмы о любви и смерти среди некрасивых костюмов и некрасивых вещей, веселые и смешные фильмы, веселые и смешные фильмы о любви, веселые и смешные фильмы о смерти, фильмы со счастливым финалом, фильмы с несчастливым финалом, фильмы с открытым финалом, фильмы-загадки, фильмы-аллегории, фильмы-путешествия, фильмы-пародии, фильмы-откровения и, его любимые, плохие-фильмы-непонятно-о-чем. Он будет смотреть их все, иногда по несколько штук за сутки.
В городе К. он обнаружил видео-прокат, в котором фильмы на любой вкус выдавала за вполне приемлемую плату госпожа Козетта, женщина-вамп преклонного возраста, очень умная и красивая – подметил про себя Мартин, всегда обвешенная таким количеством украшений, что каждое ее движение производило звонкое металлическое бряцанье.
Ваза
Это был один из тех дней, когда как бы ярко ни светило солнце, на душе у него оставалось беспросветно мрачно. Точнее, от солнца ему как будто и было нехорошо, если не принимать во внимание другие причины.
Фи куда-то уехал с родителями. Клелия почему-то больше не сидела с ними в столовой. Отец был либо на работе, либо с госпожой Лилией. Где был Корнелиус, Мартин не знал.
Он смотрел на улицу через пыльное оконное стекло и гладил по мягкой головке плюшевую собачку Соню (лысоватую и кривую). Гладил, и гладил, и гладил. Как будто от его ласк она могла стать ему настоящим живым другом. Мартин переворачивал ее на бок в кровати-коробочке, когда ложился спать, регулярно подносил к ее вышитому рту связку пластмассовых бананов. Если он ее любит, какая разница, живая она или нет? Мартин посмотрел в ее глаза-бусинки и почувствовал такую нежность, что продолжать сомневаться в подлинности своей привязанности больше не мог. Никакой разницы, решено. Он любит ее, а она его. Он оделся, засунул Соню в нагрудный карман куртки так, чтобы ее голова оставалась снаружи, и отправился на улицу.
Когда он вышел, там никого не было. И в ярком дневном свете эта пустота нагоняла тревогу. Как будто он остался один на всей Земле. Он и его Соня. Проезжающая вдалеке машина разрушила эту фантазию, но не сделала мир вокруг более приветливым. Ведь в машинах, даже когда точно знаешь, что ими управляют люди, нет ничего теплого. А в людях, которые управляют машинами, как будто становится меньше человеческого.
Мартин обошел дом и отправился к своим лугам и холмам. На кладбище он решил не заходить, но не мог не вспомнить о матери, когда был неподалеку. Ее могила словно посылала ему магнитные волны. Чем ближе к ней он находился, тем сильнее они на него воздействовали. Он понимал, что это просто одно из множества гниющих тел, лежащих под землей, но магнитные волны внушали ему совсем другое. Ему казалось, что там, в темноте, подсвеченной таинственным огоньком, приютилась ее жалкая, крохотная душа. И что без цветов, которые становилось все сложнее красть с клумб и рынков, она потеряет ту последнюю радость, которую способна теперь воспринять.
На этот раз ее близость напомнила ему о глубоко упрятанном, но уже давно отравлявшем исподволь его существование пятне на совести. А он был одним из тех людей, которых малейшее подозрение самих себя в обмане или предательской тайне делает больными. Осознание сути произошедшего могло приходить спустя любое количество времени с момента такого события, но если уж оно приходило, то вернуть его обратно к забвению оказывалось невозможно никакими силами.
Мартин еще не учился в школе, и много бывал дома один. Развлекаться он выучился сам по себе. Кажется, в тот раз комнаты были заполнены раскаленной лавой, так что им с тигром Эдуардом приходилось продвигаться, перепрыгивая с одного островка суши на другой, то есть по верхним частям мебели. Один из таких прыжков закончился падением с тумбы лиловой фарфоровой вазы, в которую обычно ставили небольшие по размеру цветы, например, веточки мимозы. Ваза разлетелась на несколько крупных и множество мелких частей. Мартина накрыл ужас гораздо более сильный, чем вызывала фантазия об извержении вулкана. Сперва он предпринял попытку собрать вазу из осколков, но из этого ничего не вышло. Мелкие детали не получалось как следует приладить, да и между крупными были заметны трещины. Мартин был в отчаянии. Оставался только один выход. Он собрал все в пакет, тщательно вычистив всю комнату веником, завязал его на два узла и выбросил в окно. Только через несколько дней, которые Мартин провел в состоянии мучительного беспокойства, его мать заметила исчезновение вазы.
– А куда вазочка сиреневая делась?
Никто в комнате ничего ей на это не ответил. Отец и Корнелиус – потому что им не было дела до наличия иди отсутствия в доме вазочек, а Мартин – потому что боялся разоблачения. Его сердце стучало как бешеное, в ушах стоял звон.
– Хм… Интересно…
Больше об этом никто никогда не упоминал. А мать умерла, так и не узнав правды об исчезновении вазы. Сердце Мартина забилось сильнее, чем в тот день, когда он оставил ее вопрос без ответа. Простила бы она его, если б узнала истину? Мартину стало дурно. Он закрыл лицо руками и затрясся от рыданий. Нужно было непременно рассказать все если уж не ей, то кому-то еще. Ему казалось, что он сойдет с ума, если проживет наедине с этим еще хоть один день. Не помня себя, он бросился обратно в город и сам не заметил, как оказался перед домом Клелии. Она была одна, впустила его, налила чай и выслушала очень серьезно.
– Мне кажется, твоя мама все знает и прощает тебе – таким образом, какой мы не можем себе представить, но от этого не менее действительным.
Мартин ничего не ответил. Он больше не плакал и, посапывая на высокой ноте, сосредоточенно всматривался в зеркальную поверхность чая. Клелия тоже молчала. Невыносимый солнечный день за окном наконец-то подернулся первыми сумерками.
Бессонница
Октавия ненавидела вечера. Они ассоциировались у нее со скоротечностью отведенного ей времени и подводили к необходимости погружаться в пугающее небытие сна. Ее всегда удивляло спокойное и благостное отношение других людей к этой необходимости. Потеря контроля, погружение в бессознательные опыты сновидений приводили Октавию в ужас, интенсивность которого могла быть время от времени сглажена только сильной усталостью и потребностью организма в отдыхе. Однако если усталость доходила до степени переутомления, ее эффект мог оказаться прямо противоположным – у Октавии случалась бессонница. Она никогда не могла сказать заранее, что в ней одержит вверх, когда шла в постель, – переутомление или перевозбуждение. Слизняки производят два вида слизи: один – жидкий и водянистый, и второй – густой и липкий. Ей случалось слышать, как люди, которые никогда не страдали этим расстройством, говорят, что во время бессонницы можно заниматься чем угодно, или, по крайней мере, думать о чем угодно. Октавия знала, что это не так. То, что происходило с ней на протяжении долгих мучительных часов в ставшей вдруг ужасно неудобной постели, вообще нельзя назвать размышлениями. Гораздо больше это походило на такую вариацию сна, в котором сознание теряется только частично, а тело и разум не только ничуть не отдыхают и не восстанавливаются, а, наоборот, изматываются сильнее, чем от любой другой нагрузки. Само перемещение в горизонтальное положение причиняло ей страдания. Жидкая слизь распространяется от центра ноги к краям. В этот момент в ней как будто что-то запрокидывалось. Какая-то фантомная внутренность. Какой-то клапан. Или сосудик с жидкостью. Состояние болезненного возбуждения в такие моменты имело свойство усиливаться в геометрической прогрессии. Чем меньше оставалось времени до утреннего подъема, тем сильнее Октавия переживала. Чем сильнее она переживала, тем больше отдалялась от возможности заснуть. Тревога порождала тревогу, а страх боялся самого себя. Густая слизь разворачивается спереди назад. Необходимость идти спать и вставать в определенный час представлялась ей в виде двух стен, которые медленно движутся друг на друга, пока она лежит между ними и терпеливо, превозмогая клаустрофобный ужас, ждет того момента, когда они ее, наконец, раздавят. Послабление наступало только тогда, когда время на сон, наконец, заканчивалось. Октавия вставала с кровати разбитая, но не без чувства облегчения. Больше не надо было пытаться сделать то, механизм чего был ей совершенно непонятен. Сну надо было отдаться, просто позволить ему наступить – загадка, как люди это делают. Октавии претила идея быть чем-то захваченной, она понятия не имела, как этого правильно добиваться и как можно получать от этого удовольствие. Звонок будильника клал конец ее агонии. Какой бы уставшей и заторможенной она ни чувствовала себя после ночи без сна, она была рада, рада тому, что кошмар позади. Что делать дальше, она знала.
Однажды она ляжет в постель, забыв погасить в коридоре свет, и, немного поколебавшись, решит его так и оставить. Она будет делать это каждую ночь. Она не будет об этом задумываться, но если б задумалась, то поняла бы: дело вовсе не в том, что он создает ощущение, будто в квартире есть кто-то, кроме нее, – тот, кто включил этот свет и вот-вот его выключит. Утешение, которое поможет ей лучше спать, будет заключено исключительно в той маленькой рутинной причине, которая могла бы заставить этого человека вылезти из постели и включить в коридоре свет. Может, необходимость справить нужду, или выпить воды, или принять таблетку от головной боли. Она будет смотреть на свет в коридоре из своей темной комнаты и ждать, когда он погаснет. Она будет знать, что никто его никогда не выключит, но это знание никак не повлияет на ощущение ожидания. Он будет означать, что кто-то что-то делает где-то рядом с ней, он будет означать бесконечную жизнь, спасительную будничность, череду ничего не значащих моментов, которые никогда не прервутся.
В исламе улитка символизирует сомнение, в буддизме – терпение, а её раковина – застывшее время.
Бабочки
Когда Корнелиус был помладше, он увлекался бабочками. Это увлечение состояло в том, что он ловил их большим самодельным сачком и препарировал. Однажды маленький Мартин заглянул в его комнату в тот самый момент, когда Корнелиус прокалывал крапивницу булавкой поперек тельца. Перед ним лежал толстый картонный лист с другими пришпиленными к нему чешуекрылыми. С Мартином случилась истерика. Он схватил коллекцию брата, стал вынимать из бабочек булавки, подбрасывать их в воздух и, задыхаясь от рыданий, кричать:
– Летите! Летите!
Но бабочки никуда не летели, вместо этого они падали на пол, а Корнелиус терпеливо подбирал их, стараясь не повредить чешуйки на крыльях. Мать тогда сказала, пытаясь утешить Мартина, что они просто спят. Но он знал, что это не так. К тому моменту он уже успел осознать неизбежность собственной смерти и все время колебался между ужасом настоящего конца и верой во что-то успокоительно-возвышенное и невыразимо прекрасное – сияющую вечность, которая приютит его в соответствии с его собственными представлениями о благе.
И теперь это смутное, но неотступное устремление всех его мыслей и желаний заставляло Мартина бродить по прилегавшей к их городу деревне и думать о том, что все котята, которых утопила бабушка, все слепые марии, все уродливые игрушки, которых никто не купит и никогда не полюбит, все нерасторопные матери, которыми пренебрегают, все учительницы, которых не слушают, все потерявшие самых близких, все пимпочки, все замученные дождевые черви, все погибшие в младенчестве кроты, все лисы из снов, все неперелетные птицы, все бессловесные старики, все выброшенные на помойку щенки, все грязные щели, на которые никто не смотрит, все сломанные велосипеды, все фильмы, которые никому не понравились, все зачахшие яблони, все увядшие розы, все уставшие странники, все ненаписанные книги, все уборщицы с васильками на джинсах, все заблудившиеся в темном лесу мальчики, все погибшие на космических кораблях обезьянки, все трогательные уродцы, которых он рисовал цветными фломастерами, все невзрачные цветочки и листики, все самые тусклые звезды, все мутные лужицы, все серые попугайчики, все препарированные бабочки – все они будут извлечены из ткани времени и пространства, и каким-то неопределимым образом всем им станет очень хорошо в неопределимом и неописуемом смысле.
Неожиданность
С некоторых пор Фредерик стал подниматься по утрам еще раньше обычного и вместо привычного маршрута через городские тротуары к спортплощадке бежал на кладбище. Почему законное желание посетить могилу собственной жены представлялось ему чем-то таким, что необходимо было держать от всех в секрете, в том числе от Мартина (особенно от Мартина), он не знал, но догадывался, что это как-то связано с тем возмутительным обстоятельством, что одна мысль о сыне отнимает у него последние остатки мужества. Сын. Ни вслух, ни про себя он никогда этим словом не пользовался. Сын, жена, муж. Что-то было не так с этими понятиями. Ему было от них неприятно, но не оттого, что жена его умерла. Отчего-то другого. Он старался не предаваться подобным размышлениям, но они оставались где-то в поле его зрения всегда. Обычно он присаживался на невысокую деревянную оградку, подпирал голову рукой и сидел так в течение неопределенного количества времени, разглядывая надгробия и прислушиваясь к пению лесных птиц. Ему нравилось чувство безопасности и меланхолии, которое наводило на него это место.
Чрезмерной наблюдательностью он не отличался, но все же не мог не заметить, что время от времени на могиле возникают свежие цветы, которых сам он никогда сюда не приносил. Обычно это были маленькие полевые букеты или анютины глазки, какие сажают перед домом офицеров, но иногда ему случалось видеть здесь и дорогие пионовидные розы, которые уж точно не могла притащить какая-нибудь чувствительная знакомая умершей. У Фредерика возникла фантастическая идея: а не было ли у его жены тайного любовника, который теперь ходит сюда поочередно с ним? Самая очевидная разгадка этой тайны почему-то так и не пришла ему в голову, пока случайно не открылась сама собой. Засидевшись как-то воскресным утром здесь дольше обычного, он вдруг услыхал приближающиеся к нему по тропинке, ведущей в город, шаги и отчего-то решил немедленно спрятаться в лесу за березами. Инстинкт его не подвел – в неожиданном посетителе он, выглянув из своей засады, узнал Мартина. Тот положил на могилу букет с голубыми головками и сел на то же место, которое Фредерик занимал минуту назад, вероятно, еще хранившее тепло его мускулистого зада. Что-то заворожило его в этой картине. Вот они – согласные во всем и любимые друг другом, его странный сын и его мертвая жена. А он – словно маленький мальчик, наблюдающий за весельем других детей из окна своей комнаты, которую ему запрещено покидать. Ему стало стыдно. Немного потоптавшись на месте, он углубился в лес и, сделав большой круг, чтобы уж наверняка ни с кем больше не пересечься, вернулся в город.