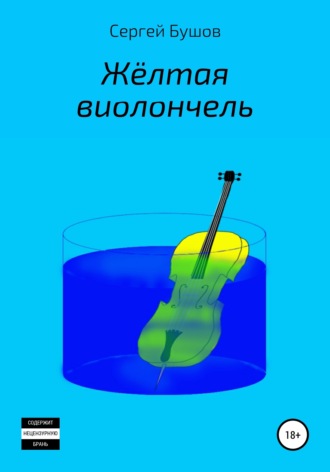 полная версия
полная версияЖёлтая виолончель
Я вздохнул. Мне не хотелось ничего представлять.
– Я иду медленно, – сказал я. – Мне холодно…
– Меня интересует ваше визуальное восприятие, – сказал Иванов.
– Я дрожу, – продолжал я. – Мне хочется есть. Живот болит. Сильно, справа.
– Что вы видите? – настаивал Иванов.
– Темно, – сказал я. – Жёлтая виолончель. Жёлтая виолончель…
– Что ещё за виолончель?
– Я иду к мусорным бакам, – сказал я.
– Вы видите какие-нибудь надписи? – спросил Иванов. – Можете прочитать?
– Вывоз мусора, – сказал я. – С восьми ноль-ноль…
Я иду по хмурому, плохо освещённому двору. Слева вверху покачивается голубой огрызок луны.
– Очки, – бормочу я. – Это многое объясняет…
На самом-то деле, это ничего не объясняет. От того, что человек потерял очки, мир не становится синим. Да и дымка, витающая вокруг меня – не просто отсутствие резкости. Вот, предположим, захочу я прочитать табличку на том мусорном контейнере, что стоит метров за пятьдесят от меня – я же вполне спокойно смогу это сделать. Мне достаточно захотеть, и дымка рассеивается. Буквы и цифры чёткие, словно находятся рядом и хорошо освещены. «Вывоз мусора с 8-00».
Как же тяжело ковылять к этим бакам. Тряпки на ногах поистёрлись, одна почти свалилась. Горло режет так, что больно не только глотать, но и дышать. А глотать всё равно нечего, кроме собственной слюны. Я вспоминаю огрызок батона, оставленный мной так недавно на остановке. Его можно было оттереть от грязи и съесть. Да что там – я бы сейчас и блевотину саму съел с удовольствием. В животе жжёт. Ноги заплетаются. Так вот почему я иду к мусорным бакам – в них может быть еда. Сейчас же люди часто так делают. Купят, скажем, две палки колбасы, не подумав. А потом понимают, что им нужна только одна. И вторую выбрасывают на помойку. Или притащат домой сыр зелёный, а потом вспоминают, что он им под цвет обоев не подходит…
Я хватаюсь рукой за край бака. Кружится голова. Пытаюсь вытащить верхний пакет с мусором. Он рвётся. Пустые бутылки. Памперсы. Упаковка от колготок. Не то. Отбрасываю пакет. Следующий. Завязан. Пальцы трясутся. Хорошо, что ногти корявые и длинные. Рву пакет. О! Это же картофельные очистки! Сую в рот, жую. На зубах скрипит песок. Баночка из-под детского питания. На стенках осталось чуть-чуть. Пальцем выковыриваю сиреневое пюре вместе с зелёной плесенью, ем. У меня пир. Отодвигаю пакет и вижу потёртый, смятый ботинок. Надо же, какая удача! А вот и второй. Откапываю оба, осматриваю. Грязные, форму потеряли, вот здесь чуть надорвана подошва, но в целом ботинки вполне нормальные. Размер, похоже, мой или чуть больше.
Справа от меня раздаётся шуршащий звук. Крыса? Звук повторяется. Нет. Это чья-то речь. Невнятная, шепелявая.
– Жолодой шеложек, – доносится до меня. Я поворачиваю голову. В паре метров, у дальнего из баков, возвышается причудливая фигура. Она напоминает очень высокого человека. Метра два ростом, не меньше. Он космат, лицо всё покрыто бородой, из которой торчат ещё и ужасающие, длинные, свисающие усы. Огромные выпуклые глаза сверкают в темноте.
Фигура одета в бесформенный плащ, застёгнутый на несколько рядов пуговиц. Рукава длинные, почти до земли, и заканчиваются огромными раструбами, покачивающимися над асфальтом. Фигура медленно движется ко мне, хотя я не вижу, как переставляются ноги.
– Жолодой шеложек, – повторяет фигура. – Мушорку не рый. Мой мушорка.
Слегка опешив от уставленных прямо в меня налитых фиолетовой кровью белков, я пячусь и пытаюсь ответить:
– Общая мусорка. Вы что её, купили?
– Моё ражрешение, – шепелявит фигура, двигаясь всё ближе. Я начинаю осознавать её размер – чтобы видеть лицо, мне приходится запрокидывать голову. С бороды незнакомца капает густая зелёная слюна.
– Жомж? – вопрошает фигура.
– Да нет, я не бомж, – бормочу я. Чувствую, что надо бы убежать, но сил совсем нет, и меня снова бросает в дрожь – то ли от температуры, то ли от страха.
– Нешорошо, – борода шевелится, издавая звуки. – Мушорки для жомжей.
Он стоит и смотрит на меня, а я на него. Внезапно его рукав начинает вздыматься, приближаясь ко мне.
– Жуку, – произносит он.
– Что? – не понимаю я, но моя рука машинально готовится защищаться, и в ней внезапно оказывается твёрдый, вложенный в неё предмет.
Это яблоко. Блестящее, большое, ярко-фиолетовое.
– Ешь, – говорит гигант.
– Спасибо, – лепечу я и кусаю яблоко. Оно сладкое, сочное, хрустит на зубах. Съедаю вместе с огрызком.
Гигант смотрит на меня.
– Жошли, – говорит он и, разворачиваясь ко мне спиной, двигается в сторону ближайшего подъезда. Я иду за ним. Я хочу ещё такое же яблоко. Похоже, он не страшный. По сути, я теперь такой же, как и он. Но у него опыта больше. И он решил поделиться. Вот и всё.
Мы подходим к двери подъезда. У меня возникает вопрос, как он откроет дверь. Я вижу домофон. Дверь заперта. Может быть, у него есть таблетка? Или в одной из квартир есть кому его пустить?
Но гигант просто хватает дверь за ручку и резко дёргает на себя. Дверь издаёт жалобный металлический хруст и открывается.
Я иду за ним. Фигура поднимается по лестнице марш за маршем. Лампочки в подъезде не горят. Плащ моего спутника чуть поблёскивает впереди и сверху в свете тусклых уличных фонарей, пробивающемся сквозь грязные стёкла подъезда.
Мы идём всё выше. Я задыхаюсь. Гиганту всё нипочём. Он словно плывёт над ступенями. Я не могу рассмотреть его ног под плащом. Я понимаю, что ноги должны быть, и что я должен их видеть прямо у себя перед носом, но не вижу.
Я устал подниматься, но почему-то чувствую необходимость не отставать. Ничего. Главное правильно дышать. Вдох… Выдох… Наконец, мы пришли. Мы на площадке перед верхним этажом. Она завалена вещами. Одежда, обломки мебели, посуда, книги, набитые чем-то пакеты.
Из одного пакета великан достаёт пластиковую бутылку. Бутылка на секунду скрывается в раструбе его рукава, а затем появляется вновь уже с открученной пробкой. Я принимаю её, прикладываю к губам. Жадно пью. Только сейчас понимаю, насколько хотел пить. Чувствую, какие горячие у меня губы и насколько пропитано жаром дыхание. Мне нужны лекарства. Я совсем заболел.
Великан тем временем даёт мне приличный кусок колбасы. Я сам не замечаю, как он оказывается в моих пальцах. Откусываю. Колбаса отличная, свежая, словно бы только что из холодильника. Где он её взял? Ем не спеша, тщательно разжёвывая.
– Спасибо, – говорю я. – Я очень хотел есть.
– Же мушорки мои, – говорит великан, глядя на меня в упор.
– Все мусорки? – переспрашиваю я. – В Москве?
– Жет, – отвечает он. – Жешде.
Как он умудряется так шепелявить? Как можно говорить «ж» вместо «в»? И где его нос? На месте носа я вижу куст густых чёрных волос. Глаза близко посажены по обе стороны от этого куста. Глаза горят фиолетовым, переливаются, блестят.
– Хорошо? – спрашивает он.
– Да, – подтверждаю я, доедая колбасу. – Спасибо.
– Жошинки, – говорит он, – указывая раструбом на ту пару обуви, что я держу в левой руке. – Яжлоко. Жода. Шолбаша.
– Да, – снова говорю я. – Большое вам спасибо.
– Жвоя ошередь, – его фигура разворачивается, придвигается, нависая надо мной.
– Вы хотите, чтобы я вам что-то дал взамен? – догадываюсь я. – Так у меня нет ничего… Если только обмотки… Или телефон вот сломанный…
– Кушочек… – говорит великан. Его рукав тянется ко мне. Я пячусь, чувствуя недоброе. Упираюсь ногой в низкий подоконник. Из раструба его плаща высовывается огромная костяная клешня.
– Возьмите… – бормочу я. – Возьмите телефон…
– Жет, – шипит он. – Жуку… Дай жуку…
Одна его клешня хватает меня за плечо, стискивает больно, отчего я корчусь и начинаю сползать на подоконник, другая плавает перед носом, точно раздумывая, за что ухватиться.
– А! – кричу я. – А! Отпустите….
Вырываюсь, жмусь к окну.
– Жуку… – шипит он. – Жуку ожай… Иж дше…
Дёргаюсь, мечусь. Лопается стекло. Длинный осколок впивается в моё запястье. Копна волос великана двигается к моему лицу. Я чувствую, как за слоем бороды что-то шевелится, готовое схватить меня, жевать, перемалывать…
Я толкаюсь ногой. Высоко… Ветер подхватывает меня и швыряет вниз. Тёмные этажи за секунду проносятся мимо… Козырёк подъезда, заваленный горами мусора… Дикая боль и хруст.
Мерзко… Отчего у меня на душе было так мерзко? Я шёл вдоль пыльного шоссе, по которому проносились с оглушительным рёвом машины. Город серел вокруг, едва различимый в смоге. Обычно я считал, что нормально себя чувствовать мне мешают люди. Но здесь не было людей, только обезличенные железяки, несущиеся мимо, да вздымающиеся вдалеке дома. То ли их незримое присутствие давит точно так же, как и явное, то ли дело и вовсе не в людях. А в чём? Видимо, во мне.
Может, настроение мне испортил разговор с Пашей. Может, то, что я отдался в лапы Иванову. Или что-то ещё. Может быть, мне просто не хватало в жизни чего-то важного, к чему я привык. Или так, блажь – к примеру, недостаток витаминов.
Я уже почти дошёл. Ко мне приближался красный кирпичный дом в пять этажей. Вид у него был обшарпанный, потёртый. В тёмном подъезде меня ждали кривые, чёрно-ржавые перила. Я шагал по лестнице, надеясь, что скоро останусь один. Дверь у Жупанова была коричневой, с облупившейся краской и маленькой надписью "PEPSI", которую кто-то выцарапал на ней ножиком.
Свет в глазке не горел. Это обнадёживало, и я открыл дверь. Разулся, прошёл. Все здесь казалось убогим и застывшим. Большие часы на стене тикали бесстрастно и уныло. Я сел на диван, откинулся на спинку и закрыл глаза.
Велик был соблазн просто посидеть и ничего не делать. Но я знал, что это только сильнее вгонит меня в депрессию. И я отлично знал лекарство от неё.
Я давно ничего не писал. Нужно было начать что-то новое. Вообразить новый мир. Населить героями. Сочинить сюжет. Лучше всего что-то лёгкое, весёлое. Может быть, сказку. Хотя, если уж говорить совсем честно, в глубине головы у меня уже давно болтались обрывки, которые я очень хотел превратить в книгу.
Я достал из рюкзака тетрадь. Она была практически чистой. Когда-то первые страницы занимали кусочки университетских лекций, но я их вырвал за ненадобностью. Так что начинал я с чистого листа.
Постепенно бумага стала покрываться словами. Я начал издалека. С языка описываемых существ. Мне это казалось важным.
Внезапно во входной двери заскрипел ключ. Я засуетился, пряча тетрадь. Я знал, что будет, если меня застанут за необычным занятием. Допрос. Я привстал с дивана и выглянул в прихожую. Это было необходимо, чтобы продемонстрировать бдительность, которая являлась условием проживания.
Дверь открылась. Жупанов был низеньким, плешивым, большеруким мужичком. Рядом стояла дочка Аня в мятом синем платьице. Волосы, сальные и не расчёсанные, были собраны в хвостик с помощью шнурка.
– Добрый вечер, – сказал я.
– Мгу, – кивнул Жупанов и, присев, стал медленно расшнуровывать левый ботинок.
Я прошёл в комнату, где как раз начали бить часы, и снова сел на диван. По привычке стал считать про себя удары, но скоро сбился. Жупанов втолкнул дочку в соседнюю комнату, зыркнул на меня и прокосолапил на кухню. Чем-то забрякал.
– Ты не трогал наш хлеб? – вдруг послышалось с кухни.
– Нет, – отозвался я.
– Странно, – сказал Жупанов. – Кажется, тут кусочек отрезан.
Сказано было с вопросительной интонацией. Аня вышла из их комнаты. На одну ногу был обут тапочек.
– Пап, – сказала она, – это я. Совсем чуть-чуть.
– Надо говорить, когда берёшь, – сказал Жупанов без всяких эмоций. Вышел из кухни. Размахнулся и ударил её ладонью по затылку. Потом вернулся на кухню, а Аня спокойно пошла за ним, щупая шнурочек на своём хвостике.
– Что-то вы рано, – сказал я, думая, чем бы заняться, чтобы не вызывать подозрений.
– Так заказы же, – буркнул Жупанов, вынося с кухни тарелку с бутербродами и кружку чая. – Был один с утра, а больше нет.
Жупанов занимался переездами квартир. Работал грузчиком и всё время жаловался, что водитель получает больше. С другой стороны, своей работой он гордился. Хвастался, что туда просто так не устроиться. Связи нужны, да ещё и не любые, а с правильными людьми. У него, Жупанова, на людей чутьё. Он умеет к каждому ключик подобрать. Я столько раз слышал эти слова Жупанова, что по-другому уже и не мог передать смысл, кроме как просто повторить его фразы.
Он уселся в старое продавленное кресло, включил телевизор и принялся хлебать из чашки чай. Я, подумав, извлёк из сумки самоучитель испанского. Не то, чтобы мне сейчас хотелось этим заниматься, но лучше я не придумал ничего.
Жупанов пощёлкал каналы и нашёл новости. Он сидел, смотрел, откусывал иногда бутерброд и запивал чаем. Периодически косился на меня.
В новостях показывали репортаж о праздновании какого-то события, о котором я ничего не знал. Люди в толпе улыбались и рассказывали о своём воодушевлении. Жупанов смотрел на них и хмуро жевал бутерброд.
Я знал, что он выдаст пару комментариев, а потом переключит на другой канал, чтобы найти сериал. Ему, кажется, было всё равно, что смотреть. Во всяком случае, он делал вид, что ему одинаково не нравятся все передачи.
– И чего галдят? – сказал он. – Событие, тоже мне. Лучше бы цены снизили хоть на рубль.
Он взял пульт и принялся щёлкать. Я прочитал пару испанских слов.
– Ты чего там читаешь? – спросил Жупанов, не отрывая взгляда от телевизора. – Книжку, что ли?
– Да, – сказал я. – Вот язык хочу поучить. Испанский.
– На хрена? – не понял он. – Русского тебе мало? Чем больше чужого учишь, тем слабее наша культура.
Я не стал отвечать. Знал, что это не обязательно. Он, кажется, нашёл канал, который его устроил. Какие-то полицейские в серой форме гнались за растерянным, размахивающим руками при беге бандитом. Схватили, повалили на землю, стали кричать.
Я прочитал ещё слово или два. Мне стало тоскливо. Я убрал книгу в сумку и встал.
– Ты куда собрался? – спросил Жупанов.
– Да в магазин, – ответил я. – Вспомнил… Карандаш надо купить.
Чёрт его знает, почему мне пришёл в голову карандаш. Кажется, Жупанов не расслышал.
– Ну, смотри, – сказал он. – Поздно уже. Через час на задвижку запрусь, не войдёшь.
– Я быстро, – сказал я, надевая ботинки.
Я запер дверь и стал спускаться по лестнице. Идти мне было, собственно, некуда. Я надеялся найти во дворе свободную скамейку и продолжить писать. У Жупанова я снимал, по сути, диван, хотя официально заявлялась комната. Правда, спали они с дочкой в соседней, но моя была проходной, и полночи Жупанов шлялся в туалет или в кухню и обратно. А днём, если он был не на работе, так и вовсе почти всё время сидел в моей комнате за телевизором. Так что скамейка во дворе часто служила мне убежищем. Однако у меня была причина всё это терпеть. Жупанов брал с меня раза в три меньше денег, чем другие.
У дальнего подъезда никого не оказалось. Я сел, расстегнул сумку и раскрыл тетрадь. Так, на чём я остановился? Да, пумары…
Я натыкаюсь лбом на ветку. Чёрт. Что это? Я нахожусь посреди густых зарослей кустарника, абсолютно запутавшийся в них, исколотый, расцарапанный. Как я сюда попал? Последнее, что помню – падение с площадки между четвёртым и пятым этажами на козырёк подъезда. Я уж и не думал выжить после этого. Я цел?
Пытаюсь вырваться из кустов. Это непросто. Кустарник цепкий, его много. Наконец, выбираюсь на склон небольшого холма. Не могу определить местность. Вдалеке, в синеве, невысокие домики. Брёвнышко. Присаживаюсь. Кружится голова. В животе побаливает, но не сильно. Что же произошло? Этот бомж-гигант гнался за мной? Или то, что я помню, вообще мне привиделось? Я вспоминаю его клешни. Совершенно нереально. Приподнимаю рукав футболки.
На моём предплечье – большой синяк и два свежих пореза. Очень похоже на след от клешни. А может, я упал неудачно. С другой стороны, если этого короля бомжей не существовало, то зачем бы я падал из окна?
Чувствую себя измотанным. Голова мутная. Горло болит. Весь нос забит соплями. Надо бы найти более удобное место, чтобы полежать. Какой я, должно быть, грязный… Не чувствую запаха. По-прежнему не чувствую.
Что вообще со мной происходит? То, что я вижу – это сон? А эти фрагменты прошлого – насколько они реальны? И если реально то, что я вижу сейчас, то откуда в нашем мире уроды и мутанты?
Нет, я думаю не о том. Когда-то раньше я занимал место в этом мире. Я жил, пусть плохо, но знал, куда идти и что делать. Сейчас я даже толком не знаю, кто я. Мне нужно вспомнить. Нет, не так. Не приподнимать завесу на больном мозгу. Я знаю, к чему это приводит. Что-то должно указать мне, кто я есть.
Я встаю с брёвнышка. Осматриваюсь. Кажется, это берег заросшей речки. И всё ещё Москва. Вдали виднеется здание МГУ. Подождите… Очень знакомый ракурс…
Внезапно я захожусь в глубоком сухом кашле. Он душит меня. Я никак не могу остановиться. Ничего, ничего… Нужно идти. Кажется, я понимаю примерно, где нахожусь…
Дорожка петляет по берегу и уводит меня во дворы. Я иду медленно. Тело вроде бы цело, но мышцы болят. На руках вижу множество порезов. Большая заживающая рана на запястье стянута чёрной изолентой. Что это за рана? Та, что я получил в кабинете Иванова? Должна была зажить давно. Или я порезался о стекло подъезда? Когда я успел её в таком случае заклеить?
Я настраиваю резкость в глазах. Передо мной встаёт фиолетовая кирпичная пятиэтажка. Я пришёл домой.
Снова кашель. Давлюсь им с минуту, потом захожу в подъезд. Домофона нет. Да, так и было. Поднимаюсь по лестнице. Дышать тяжело. В носу что-то сипит. Ноги еле идут. Кстати, на ногах у меня те самые ботинки, которые я нашёл в мусорке. Пожалуй, чуть великоваты, зато не трут. И намного лучше обмоток. Я дома. Я дома. Я почти дома. Жёлтая виолончель.
Вот дверь квартиры Жупанова. Я вставляю ключ. Он подходит. Кажется, кончились мои злоключения. Я высплюсь, помоюсь, подлечусь… Замок проворачивается. Дверь открывается.
Жупанов уже в коридоре, движется навстречу мне.
– Ключ дай, – говорит он.
Я машинально протягиваю ему ключ. Он забирает его и суёт в карман.
– Вещи сейчас вынесу, – говорит Жупанов. – Снаружи подожди.
– Так это же… – бормочу я. – Я же живу здесь.
– Уже нет, – отвечает Жупанов. – Тебя неделю не было. Да и не платил ты с апреля. Я жильца пустил. Другого.
Я глотаю комок. Хочу что-то спросить, но Жупанов скрывается в своей комнате.
– Может, можно хоть умыться? – спрашиваю я.
Жупанов выносит большую грязную картонную коробку, суёт мне.
– Давай, давай, – говорит он. – Уходи. Ты ещё и воняешь…
– Можно, я помоюсь? – настаиваю я.
– Нашёл я, кого пустить, – бормочет Жупанов и резко толкает меня кулаком в грудь. – Алкашню какую-то…
Я вспыхиваю. Я готов вцепиться в его синюю расплывчатую рожу, но мне мешает коробка, и Жупанов опережает меня. От второго его толчка я вылетаю на площадку, едва удерживаясь на ногах. Дверь захлопывается.
– Скотина! Открой! – кричу я и колочу по двери изо всех сил. Напоследок сильно, с разворота, бью ногой, отчего дверь тяжко вздрагивает и гудит. Голос мой взлетает к потолку, чуть не срываясь на визг:
– Встречу на улице – убью!
Через пару минут, однако, я успокаиваюсь, поднимаю лежащую на боку коробку. Собираю в неё выпавшие вещи. Иду вниз. На следующей площадке останавливаюсь, сажусь на подоконник. Нет смысла никуда идти. Во всяком случае, отсюда пока меня не гонят.
Начинаю копаться в коробке. В глазах синяя муть. Какая-то одежда. Рубашка, пара футболок. Трусы, носки. Это пригодится. Растянутый свитер. Драный пуховик. Бритвенный станок. Очень ценно. Пара книг. Рюкзак. Ага. В него можно всё переложить.
Дрожащими руками я напихиваю в него содержимое коробки. Тетрадь. Надо будет почитать. Пена для бритья. Бутылочка одеколона. Отлично. Какие-то бумажки. Пара драных пакетов. Старомодный маленький кошелёк. М-да. Пустой, если не считать какой-то рекламки внутри. Перочинный ножик. О! Зарядка для телефона. Расчёска. Кажется, это всё. Не густо, прямо скажем. Это всё моё имущество?
Однако же, рюкзак набит под завязку. Пуховик даже не поместился, я прикрутил его рукавами к лямкам. Что дальше? Надо бы переодеться. И лучше сделать это здесь, не на улице, поскольку у меня температура. Думаю, стоит мне снять одежду, начнёт трясти. Я достаю из рюкзака трусы, носки, футболку. Запасных штанов, к сожалению, нет.
Начинаю стаскивать всё с себя. Носки присохли к ногам. На пятке засохшая кровь. Под футболкой всё тело в порезах. Холодно. Скорее надеваю другую футболку. Красную. На ней абстрактный рисунок, похожий на герб или логотип. Что значит? Не помню. Трусы. Выглядят отвратительно. Надо выбросить. Хотя нет. Запихну в пакет. Итак. Я стал чище. Ощущения намного лучше. Что дальше? Сбрить бы эту мерзкую бороду. Может, люди меньше шарахаться будут.
Зеркала нет. Да и воды тоже. Может, есть на улице какая-нибудь лужа? Беру с собой рюкзак и спускаюсь вниз, оставляя пустую коробку на подоконнике. Тащить рюкзак тяжело. Наверно, я просто ослабел за последние дни. Надо бы поесть. И поспать. Последнее, в принципе, возможно. Нужно только найти скамейку.
Я брожу по дворам. Нет здесь никаких луж. Дождь был давно. Что бы придумать? Я вспоминаю о реке, которая течёт совсем недалеко. Двигаюсь в ту сторону.
Рюкзак – это ноша. И всё же с ним я чувствую себя увереннее. Это часть моей прошлой жизни. В нём есть полезные вещи, которые мне обязательно пригодятся. Конечно, это не решает главной моей проблемы – отсутствия денег и жилья, но чуть ослабляет эту потребность.
Вот и река. Одно название. Заболоченный ручеёк. Трудно найти место, где подойти к воде. Везде трава, кусты, грязь, груды мусора. На изгибе нахожу открытый участок, где видно быстро бегущую воду. Но вплотную не приблизиться – меня отделяет от воды полоска заросшей тиной болотной жижи. Ага. Вот это поможет – обломок доски. Бросаю его сверху, встаю. Нормально.
Подойдя к воде, бросаю взгляд в зеркальную колышущуюся поверхность. Там отражается мерзкая косматая голова. Лицо в царапинах, борода клоками. Взгляд дикий. Попробуем исправить.
Я достаю из рюкзака пену и станок. Наношу пену. Смачиваю бритву в воде. Лезвие скользит по волосам, неприятно дёргая их, и станок моментально забивается. Полощу его в воде и продолжаю. Как, оказывается, неудобно брить такую длинную щетину… Да ещё и стоя на неустойчивой доске над сомнительным мокрым зеркалом. А, чёрт. Порезался. Ладно, это мелочи.
Бритьё занимает у меня кучу времени. Я устал, словно весь день таскал тяжести. Но результат того стоит – отражение уже не вызывает у меня омерзения. Смываю остатки пены, прижигаю порезы одеколоном. Кое-как причёсываю жирные спутанные волосы.
Ничего. Как-нибудь справимся. В конце концов, не такое уж я и ничтожество. У меня была какая-то работа. Я жил по-человечески. Меня, похоже, кто-то уважал. Во всяком случае, Паша и Левин со мной разговаривали. Я даже что-то там писать пытался. Это – признаться, без особых на то оснований – заставляет меня верить в то, что я не пустое место.
Я убираю всё в рюкзак. Мне хочется почитать содержимое тетради. В конце концов, это может мне напомнить… Уж не знаю, что. Да, жилья у меня теперь нет, денег тоже, как и способа их достать. Но, возможно, есть надежда узнать что-то такое, что поможет мне. Может быть, я дал кому-то в долг, к примеру. Или за мной числится заброшенный дом в деревне. Всё может быть.
Я ловлю себя на том, что бреду по улице. Куда? Зачем? Лучше завернуть во двор и найти скамейку.
Непонятно, однако, почему моё настроение улучшилось. Это противоестественно. Ведь пена для бритья скоро закончится, трусы снова станут грязными, есть хочется уже сейчас, а денег взять негде. Надо осознать это, снова впасть в депрессию и опустить руки. Вот тогда будет полный порядок.
Я сижу на разноцветной лавочке возле детской площадки, на которой никого нет. Оно и понятно, что нет – горка разломана, от качелей остались только болтающиеся обрывки цепей, а в песочнице нет песка. Но для меня это плюс. Я нашёл спокойное место, где можно достать из рюкзака наполовину исписанную тетрадь и попытаться разобрать свои собственные каракули. Вот это какая буква? «П» или «Н»? Кажется, «П». Потому что есть слово «племя», а слова «нлемя» нет. Итак, племя пумаров было большим и разнообразным…
Зен де Зен, гроза морей!
Вводные замечания.
1) Язык племён, описанных в данных ниже отрывках, чрезвычайно оригинален и непостоянен. Особенно ясно это видно на примере племени пумаров, откуда был родом Зен де Зен. Я бы сказал, что понятия языка там вовсе не существовало. Каждый представитель племени говорил на собственном диалекте – и очень удивительно, что сородичи его прекрасно понимали, ведь часто эти диалекты отличались весьма существенно. Разные лица могли использовать разные наборы лексических единиц, по-разному строить предложения, ставить ударения в словах и т. д.






