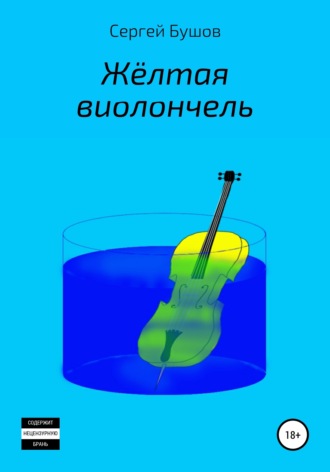 полная версия
полная версияЖёлтая виолончель
Я честно пытаюсь вспомнить.
– Да, доктор, вы правы, – говорю я. Иванов усмехается.
– Ну, хорошо, – он вновь сел напротив меня. – На этом закончим разгадывать замысловатые тайны вашей личности и приступим к простой игре.
– Игре? – усомнился я. – Вы говорили про какой-то эксперимент.
– До экспериментов мы в своё время дойдём, – ответил Иванов, раскрывая толстую тетрадь и выискивая в ней неисписанные страницы.
– Я просто интересуюсь, когда вы мне сможете денег дать, – пояснил я.
Иванов моментально вспыхнул, став похожим на алого поросёночка, и вскочил:
– Деньги, деньги! Ваше поколение только и думает, что о деньгах! Мы с вами важным делом занимается, между прочим!
– Что это за дело? – вяло поинтересовался я. – Я пока ничего не понимаю.
Иванов шумно выдохнул, снова сел в кресло, оправил пиджак, снял очки. Его глаза стали подслеповатыми, немного жалобными. Он достал из кармана жилетки чёрный блестящий платок и протёр стёкла очков, а затем возвратил очки на переносицу.
– Я хотел бы разобраться в некоторых тайнах человеческого сознания, – сказал он. – Проверить кое-какие свои теории. Так получилось, что у меня сейчас нет подопытных, а на себе я больше экспериментировать не могу. Но давайте оставим эти ненужные подробности на потом.
Он посмотрел на меня в упор, словно ожидая согласия. Не дождался.
– Да заплачу я вам, заплачу! – отмахнулся он. – Завтра принесу деньги. Забыл сегодня. Не волнуйтесь.
– Хорошо, – согласился я, наконец. – А при чём тут ваша игра?
Иванов раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Он помолчал с минуту, порассматривал свою руку, потом снова поднял глаза на меня.
– Что вы знаете о Фрейде?
– Что его звали Зигмунд, – пожал я плечами.
– И всё?
– Остальное, что я о нём слышал, нельзя обозначить словом "знаю".
– Ладно, – Иванов нервно дёрнул головой. – Так вот – Фрейд видел в оговорках, описках и опечатках определённую работу подсознания. Ну, например, один мой друг сказал: "Скоро все женщины станут такими же, как собаки. И я лично ничего против не имею". Он хотел сказать "мужчины", но сказал "собаки". Потом я узнал, что незадолго до этого сосед отравил его собаку. Вы улавливаете мою мысль?
– Да, – я, конечно, понимал. – Я тоже знаю один такой случай. Один мой знакомый ветеран сказал как-то: "Я награждён орденом Кутузова посмертно".
– Ну и что? – нахмурился Иванов, в очередной раз поправляя перчатки.
– Через двенадцать лет он и правда умер.
Иванов молчал. Он опустил руки на стол и, словно внезапно затормозивший автобус, уставился прямо на меня. Взгляд был отсутствующим. Он думал. Затем вздрогнул, выйдя из оцепенения, и придвинул ко мне тетрадь.
– Вот, – его зубы снова притянули мой взгляд. – Запишите здесь, пожалуйста, ваши ассоциации к тем словам, которые я сейчас назову.
Он, видимо, прочитал на моём лице непонимание.
– Поясню, – он сделал неопределённый жест своей правой рукой, затянутой в латекс. – Вы не должны думать. Начинайте писать до того, как осознаете свой ответ. Прочитали слово – незамедлительно пишите первое, что приходит в голову. Ясно?
– Да. Писать чем?
– А, да. Прошу прощения, – Иванов извлёк из внутреннего кармана авторучку – чёрную, сверкающую, с металлическим никелированным зажимом. Протянул мне. – Записывайте. Замок. Грязь. Чудо. Поле. Скобки. Дерево. Хвост. Записали?
– Да. Можно начать?
– Конечно, – размашисто кивнул Иванов. – Как говорится, раньше сядешь – раньше выйдешь.
Я начал набрасывать на бумаге слова, мимоходом бросив:
– Вы что, сидели в тюрьме?
Иванов насторожился:
– Нет. С чего вы взяли?
– Но, видимо, боитесь туда попасть? – уточнил я.
– Я полагаю, от этого никто не застрахован, – ответил Иванов. – Тем более в наше время. А что?
– А что случилось с вашими предыдущими подопытными? – спросил я.
– Не думаю, что я обязан отвечать на этот вопрос, – Иванов выпрямился в кресле, изображая своим внешним видом уязвлённую гордость.
– Вот видите – я неплохо усвоил ваш урок про подсознание. Готово, – я подвинул к Иванову листок и ручку.
– Уже? – он удивился. – Прекрасно. Теперь сделаем вот что – вы будете читать слова и попутно объяснять, почему подобрали именно такие пары.
Я хмыкнул:
– Не получится. Я писал просто так, не задумываясь.
– "Просто так" не бывает, – возразил Иванов. – Всегда можно попытаться объяснить. В крайнем случае, я вам помогу.
– Ну, хорошо, – сказал я. – "Замок – война", – я почесал лоб. – Наверно, это из песни. "И кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка". Вот.
– А война при чём?
– Там был такой припев: "Между землёй и небом – война". Кажется, песня так и называется – "Война".
– Ладно. А дальше?
– «Грязь – сон», – тут мне пришлось крепко задуматься. – Вот даже не знаю, почему написал. Может, потому, что когда-то мне снилась грязь… А, точно. Да, снилась. Давно. Я ещё в сонник полез, к чему это – вываляться целиком в грязи.
– И что же нашли? – спросил Иванов.
– Что грязь – к богатству. Или к благополучию, точно не помню, – я усмехнулся. – А вы что, верите в сонники?
– Я учёный, – ответил Иванов и, предупреждая моё критическое замечание, поправился: – Ну, считаю себя учёным. Поэтому ничему не верю, но всё считаю теоретически возможным. С какой-то вероятностью. И, в конце концов, вы же сами читали сонник.
Мне пришлось мысленно признать, что он меня подловил.
– Я же говорю – это было давно, – я вернулся к листочку. – «Чудо – друг». Ну, это примерно понятно. У меня нет друзей, и я не представляю, как их завести. Вообще говоря, меня люди раздражают. Так что, с одной стороны, я хотел бы иметь друга, а с другой – нет. Как представлю какую-нибудь пьяную компанию, скажем, корпоратив или рыбалку, сразу отпадает желание с кем-то общаться.
– Но друг – это не обязательно пьяная компания, – возразил Иванов. – Бывают же, в конце концов, приличные интеллигентные люди.
Я не выдержал и рассмеялся.
– Что такое? – насторожился Иванов.
– Да я подумал, что вы, должно быть, про себя говорите. Это вы-то приличный человек?
– Ну, знаете! – Иванов выпрямился в кресле. – Положим, вы мне тоже не особо симпатичны, но я вас не оскорблял.
– Помнится, вы меня ничтожеством обозвали, – напомнил я.
– Не совсем так, – попытался выкрутиться Иванов, но тут же сдался: – Хорошо. Что дальше?
– «Поле – боль», – я снова оказался немного озадачен. – Может быть, просто по созвучию написал…
– Много созвучных слов, – заметил Иванов, – но вы выбрали именно это. Не «доля» или «воля», например.
– Согласен… Ну, тогда, наверное, так… Борис Полевой написал книгу о лётчике, который лишился ног. Ему было больно. Такое объяснение подойдёт?
– Любое подойдёт, – сказал Иванов, пристально глядя на меня. – Если оно правдивое.
Я вдруг вспомнил поле. Футбольное поле. Огромное. А я – маленький. Лет 10 или около того, но ростом не вышел. И бегал я плохо, задыхался. Я сидел на влажной траве и плакал посреди огромного поля. Левая штанина тренировочных брюк пропиталась кровью. Я споткнулся о мяч и упал коленом на камень. Было больно. Огромная ссадина на колене заживала потом недели две. Мяч у меня после падения тут же отобрали и побежали к нашим воротам. Я не любил бегать и особенно не любил футбол. Но постоянно приходилось в него играть – на уроках физкультуры, да и просто так, за заборами. Потому что никто не понимал, как можно не любить футбол, и я не хотел показывать, что я его не люблю.
– Вы что-то замолчали, – голос Иванова вырвал меня из воспоминаний. – Могу я узнать, о чём вы задумались?
Я вздохнул:
– Я пытаюсь понять, какие события запоминаются надолго.
Руки Иванова, до сей поры спокойно лежавшие на коленях, вздрогнули. Пальцы согнулись, схватившись за мягкую, глянцевую ткань чёрных брюк. Лицо побледнело сквозь бороду, а оправа очков напиталась каким-то особым, магическим светом, исходящим из его глаз. Я понял, что затронул самые глубины его души, всколыхнул нечто такое, что для него очень болезненно и живо…
– Вот… вот… – пробормотал он. – Вот именно… Что, какие образы запечатлеваются и служат основой для дальнейших отпечатков… Это занимает меня больше всего.
Он опустил глаза.
– Кажется, я не совсем ясно говорю. Но… вот, – он выхватил у меня тетрадь и, перевернув страницу, нарисовал в середине жирную точку.
– Что это, по-вашему? – спросил он, пододвинув ко мне тетрадь.
– Точка, – ответил я.
– Вот видите! – восторжествовал Иванов. – Почему вы сказали "точка"? Я же показал вам целую тетрадь! Тетрадь намного больше и заметнее, чем маленькая точка, но назвали вы почему-то именно точку! Почему?
Я помедлил с ответом, но, наконец, произнес:
– Мало ли на свете тетрадей… Тетрадей с точками гораздо меньше.
– Да, – кивнул Иванов. – Пожалуй. Это одно из возможных объяснений. То есть мозг выделяет самое редкое, исключительное, такое, чего больше рядом нет.
Я подумал, что в той моей ссадине не было ничего исключительного. Обычная ссадина. Каждый рано или поздно разбивает ногу о камень или падает с велосипеда на шершавый асфальт. И ситуация сама по себе исключительной не была. В футбол играли в детстве практически все. Я хотел продолжить размышлять, но Иванов нетерпеливо подогнал меня:
– Ну же, что у вас там дальше?
– "Скобки – магнитофон". Ну, это совсем просто. "Скобки" по-английски "brackets", "bracket" – это подставка, подставка – это колонна, а колонки – это громкоговорители для магнитофона.
– Мм… – Иванов выглядел не вполне удовлетворённым. – Как-то всё это слишком длинно. Я бы сказал, слишком рассудочно. Может быть, скобки просто напомнили вам внешний вид магнитофона с колонками?
– Возможно, – подтвердил я. – Но вообще-то это моя ассоциация – как хочу, так и толкую.
– Ладно-ладно. Не сердитесь, – Иванов поспешил замять вопрос. – Продолжайте.
– «Дерево – смерть».
– Почему? – Иванов округлил глаза.
– Не знаю.
– Попробуйте объяснить.
– Не могу.
– Может, сучья деревьев кажутся вам похожими на руки мертвецов?
– Вам лучше знать. "Хвост – сеть".
– Погодите вы с хвостом… "Смерть" – это слово необычное, просто так оно в голову не придёт. Вы боитесь деревьев?
– Нет. Я собак боюсь.
– Может быть, вы просто очень часто думаете о смерти?
– Может быть.
– А когда вы видите дерево, вы чего-нибудь боитесь?
Моё терпение уже кончалось.
– Послушайте, доктор, вы маньяк. Ну с чего бы я боялся деревьев?
– Но почему смерть?
– Ну, не знаю… Может, мертвецы в земле, а деревья оттуда воду сосут. Может быть, поэтому.
– Хорошо. А хвост?
– Какой хвост? Фу… Ну вы и скачете… "Хвост – сеть", потому что у кошек шерсть растёт вдоль хвоста, а полоски поперёк. Получается сеть.
Иванов снял очки и принялся тереть пальцами уголки глаз.
– А когда вы говорите «сеть», вы вообще какую сеть представляете? Рыбацкую?
– Да трудно сказать, – ответил я. – Просто сеть. Клеточки. Вроде как решётку.
Решётка висит передо мной, расплывчатая, синяя, зыбкая. Мне холодно. Я по-прежнему бос, и ноги, стоящие на бетонном полу, коченеют. Я поджимаю их под себя. Я понимаю, что сижу в «обезьяннике». Или в том, что в этом странном синем мире заменяет камеру предварительного заключения. Отчего-то меня не очень это волнует. Я всё ещё наполовину там, в своём видении. Что это вообще было? Это не сон. Слишком реалистично. Я по-настоящему переживал всё, что произошло. Это не похоже на обычное воспоминание. Как будто бы я просто перескочил сознанием назад во времени, но при этом переместилось только моё «я», осознание себя как личности, а память и знания остались от того человека из прошлого. Тот я не знал, что с ним произойдёт в будущем. Правда, я, находящийся вроде как в будущем, вообще мало что знаю.
Я сижу на твёрдой скамье. В правой части живота ноет. Не знаю, что это может быть. Печень? Вроде не тут она, а левее. А что тогда? Что бывает, кроме печени? Я явно не спец в анатомии. Печень, печень… Печенье? Печенье может болеть? Оно может встать поперёк кишки и острыми краями колоть меня изнутри. Наверно, так и есть. Железное печенье. Только откуда оно взялось? Чушь какая… Ещё болит рука в запястье. Жжёт левую скулу. Похоже, там свежая рана. Может, в «бобика» неаккуратно сажали?
Я начинаю осознавать реальность. Я в отделении полиции. Меня застали на месте преступления. Я никого в этом мире не знаю и даже не представляю, что произошло в кабинете Иванова. Похоже, меня ничего хорошего не ждёт. Что делать?
Я должен видеть сквозь решётку, но не вижу ничего. Темно. И сама решётка выглядит, словно полосы синего тумана. Грохот. Полосы расплываются. Из темноты появляется фигура уродливого чудовища. Тушка округлая, короткая, как обрубок. На ней щетинятся то ли части брони, то ли оружие. Лапки сучат, жвалы шевелятся. До меня доходит, что существо обращается ко мне, но я почти не слышу звуков.
Я поднимаюсь со скамьи и шагаю в его сторону.
– Что? – переспрашиваю я.
– На выход, говорю, – отвечает полицейский. – Выпускают вас.
– Выпускают? – я не понимаю смысла этого слова и сквозь синюю муть следую за неуклюжей фигурой.
– А что вас держать? – говорит чудовище. – Личность ваша установлена, показания подтвердились. Да и жмурик ваш, как предварительно утверждают эксперты, умер естественной смертью.
Я утыкаюсь в деревянную стойку. Моя личность установлена. Каким образом? Кто я? И что значит «показания»? Я давал показания?
– Вот здесь распишитесь, – кончик лапки моего освободителя тыкается в зеленоватый документ, лежащий на стойке. Я догадываюсь, что бумага на самом деле пожелтевшая.
– Показания? – бормочу я, выводя на документе свою подпись. Стоп! Присматриваюсь к подписи, насколько могу. Различаю сплетение трёх букв. Кажется, В, К и А. Или Б, Р и Л?
– У вас снова провал? – уточняет чудовище. Его глаза кажутся мне в тумане огромными, сетчатыми. – Вы объясняли уже. Вы к доктору из-за проблем с памятью обращались. И за содержимое карманов распишитесь.
Я расписываюсь, при этом принимая из конечностей полицейского маленький пакетик, в котором лежат, кажется, несколько монет, ключ и потёртый смартфон с разбитым экраном. Интересно, был ли он разбит, когда меня забирали? Не помню, как и всё остальное.
– Всё, вы свободны, – говорит существо и вдруг придвигается ко мне своей огромной головой. Между его жвал что-то шевелится, издавая шипящие звуки, похожие на шёпот: – Мужик, я бы на твоём месте скорее валил, пока начальство не передумало. Глухарей-то у нас всегда хватает…
– Спасибо, – говорю я и как могу быстро двигаюсь к выходу.
– Живёте-то где, помните? – кричат мне вдогонку.
– Да, – почему-то отвечаю я, со скрипом отворяя тяжёлую дверь. Вылетаю на улицу и снова осознаю, что на мне нет ни ботинок, ни носков. На улице не жарко. Похоже, вечер. К тому же накрапывает мелкий дождь. Асфальт мокрый и неприятный. Я двигаюсь наобум. Подальше отсюда. Скорее. Где мои ботинки? Должно быть, оставил у Иванова. Нужно идти туда.
Иду, иду. Ковыляю. Ноги заплетаются. Синие сумерки, подрагивая, плывут мне навстречу. Кажется, я далеко уже ушёл. Иванов, Иванов… А где его кабинет? Останавливаюсь. Не знаю, где кабинет. Да и я сам непонятно где. Ноги мёрзнут от соприкосновения с холодными лужами. Хочется оторвать ноги. В смысле, от земли их оторвать и взлететь. Впереди автобусная остановка. Пустая. Под крышей не капает. Сажусь на слегка влажную скамейку, поджимаю ноги. Ловлю себя на том, что я только что сидел так же в «обезьяннике». Невероятная история. Она не могла произойти со мной. Может, мне всё привиделось? Не могу поверить, что попал в полицию. И тем более – что полиция может просто так отпустить. Даже не избили. А может, не помню.
Жёлтая виолончель. Жёлтая виолончель. Я не могу сидеть тут вечно. Я хочу есть. Хочу согреться. Что для этого нужно? Чтобы поесть, нужно купить еды. У меня есть немного мелочи. Но хватит ненадолго. А что дальше? Чтобы согреться, мне нужно найти мой дом. У меня наверняка есть дом.
Странно вот так, посередине жизни, ощущать, что не понимаешь, кто ты и откуда взялся. Должно быть, человечество в целом ощущало примерно то же самое, когда стало понемногу соображать. Пока люди бегали с палками за мамонтами и не имели времени подумать, всё было хорошо. Замечтался о смысле жизни – получил бивнем под ребро. Идиллия. А потом, когда стало чуть полегче, когда запаслись мясом на день вперёд, вдруг люди задумались – а мы кто? Откуда мы? Нас кто-то создал? Или мы сами из праха выползли? И появилось множество религий, теорий, возможных объяснений… Вот и я так же – могу о своём прошлом только гадать.
Жёлтая виолончель. Скоро будет война. С чего я это взял? Наверно, здесь много больных людей. У одного живот болит, у другого нога. Все чем-то недовольны. А виноват кто? Враг. Вон там, за бугром. Что за бред я несу? Бред, бред. Горшки. Вот горшки помню. Плывут вокруг меня. Корабль. Куда плывём? Наверно, как раз на войну. Вон и доспехи. Щит красивый, медный. На нём отчеканены две змеи. Одна скоро поглотит другую. А та – никак не проглотит первую. Горшки. Может, я тоже горшок? Или был горшком? Лежал среди других горшков, плыл воевать…
Да нет, это ерунда. Горшок не может ничего помнить. Или может? Всё из частиц, одних и тех же. Атомы. А атомы почти пусты. Почему бы атомам не помнить? В них так много места для воспоминаний. Со временем горшок рассыпался в пыль, кто-то эту пыль вдохнул и родил Иакова. А Иаков ещё кого-нибудь. А его потомок – меня. А я рожу кучу пепла в крематории и из него слепят горшок. И этот горшок будет помнить, как я тут бродил и бредил…
Воин вот ещё. Стоит, видишь ли. Грозный. Со щитом и мячом. На этом щите другая картина. Сельскохозяйственные работы. Тут обмолот, там окот… А тут вон трактор с бороной. На бороне ворона. На вороне корона. А на мяче размашистые подписи всей ахейской шайки. О чём я?
Голова не работает. Надо почистить, почистить… Что я имею в виду под словом «почистить»? Там и так абсолютно пусто. Наверно, «почистить» означает убрать эту проклятую плёнку, которая скрывает воспоминания.
Кусочек информации всплывает. Был такой фильм, «Обломок империи». Не знаю, смотрел я его или нет. Но содержание откуда-то знакомо. Может, читал о нём или слышал. Человек, потерявший память, забыл, что произошла революция семнадцатого года, и знал только то, что было до неё. Ему было проще. Он что-то помнил, и поэтому был обломком империи. Я не помню ничего. Что я такое? Обломок пустоты?
Нет, всё-таки обрывки есть. Вон, даже про фильмы старые. Догадываюсь, что учился в школе. Может, и в этом, как его… В институте или университете каком-нибудь. И там получал какие-то знания. Может быть, там учили ориентироваться на местности? Или выживать в городе без денег и еды? А я забыл.
Осознаю, что у меня в руках пакет. Достаю из него мелочь, пересчитываю. Пятьдесят четыре рубля. Но не могу понять, много это или мало. Не помню ни одной цены ни на одну вещь. Кажется, буханка хлеба стоит 24 копейки. Если так, то я богат. Надо купить еды. Живот ноет справа внизу и немного жжёт по всему кишечнику. Интересно, до потери памяти тоже было так?
Убираю мелочь в карман. Смотрю на ключ. Ключ обычный, плоский. Ни брелока, ни колечка. От чего он? Наверно, от дома. Почему он синий? А, да, всё же синее. Ключ тоже в карман.
Телефон с экраном, покрытым паутиной из трещин. Пробую включить. Он мёртв. Просто села батарейка или он уже никогда не заработает? Открываю корпус, убеждаюсь, что сим-карта на месте. Может быть, на ней есть чьи-то номера? Нужно попробовать зарядить. Но у меня нет ни зарядки, ни тем более розетки. А бывают розетки без квартир? Прилетит ко мне одна такая, скажет: «Бонжур, месье. Не желаете ли воспользоваться током?» И я сразу суну в неё пальцы. И всё вспомню. Хотя не пролезут пальцы. Толстые.
Сидеть на месте глупо. В конце концов, я просто замёрзну. Или с голода умру. Вокруг ни души. Что это за город? Если Москва, то где все люди? Я понимаю, что уже темно и дождь, но я уверен, что в Москве всё равно не бывает так безлюдно.
Магазин. Нужен магазин. Куплю хлеба, колбасы. Зарядку для телефона. Ботинки. Пятьдесят четыре рубля должно хватить.
Я встаю со скамейки и иду наобум. Фонари расплываются над моей головой, превращаясь в причудливые синие цветы. Как выглядит магазин? Думаю, что увижу его и узнаю.
Итак, сколько же хлеба я могу купить? Пятьдесят четыре рубля поделить на двадцать четыре копейки… В моей голове возникает столбик. Два запишем, умножим… Мозг не слушается. Может, допустить, что цена 25 копеек? Тогда вычислить проще. В рубле получается 4 буханки. Четыре умножить на двадцать четыре… Стоп, почему на двадцать четыре?
Впереди и сверху посреди ночного неба маячит фиолетовое число «24». Оно переливается и плывёт сквозь синюю дымку куда-то вниз, и я понимаю, что, задрав голову, опрокидываюсь назад. Кое-как сохранив равновесие, осознаю, что это – вывеска круглосуточного магазина. Шагаю туда, по пути успев оценить количество буханок снизу двумястами штуками.
Дверь тугая, скрипучая. Пробираюсь внутрь. Кругом полки с пёстрыми товарами, из которых подавляющее большинство – бутылки с пивом и прочей дрянью. Они меня не интересуют. Я начинаю понимать, что ботинок и зарядки мне здесь не купить. Но это ничего. Буханка хлеба – тоже неплохо.
Продавщица, полноватая женщина, похожая на армянку, покачивается за прилавком. Её взгляд – недовольный, насторожённый – ощупывает меня. Да, я понимаю, что выгляжу не очень хорошо. Грязный, нечёсаный, заросший, да ещё и босиком.
– Извините, – говорю я. – А чёрный хлеб у вас есть?
Её ответ раздаётся словно бы издалека. Синяя дымка плохо пропускает звуки. Я догадываюсь больше по мимике, что ответ «нет», но она говорит что-то ещё…
– Простите? – переспрашиваю я.
– Только белый, говорю! – выкрикивает она. На лице отражается злоба.
– Сколько стоит?
– Тридцать пять рублей, – отвечает она.
Я дрожащей рукой вываливаю на прилавок мелочь. Совсем не двадцать четыре копейки. Откуда я взял такую цену? И если в реальности хлеб стоит тридцать пять рублей, то о ботинках и зарядке для телефона можно не мечтать. И, боже мой, сколько же я должен зарабатывать при таких ценах?
Я принял из окошка шаурму – аппетитную, аккуратно завёрнутую в пакетик и помазанную с одного конца майонезом. Хотя нет, слюнки у меня вовсе не текли. Честно говоря, она мне уже надоела, эта шаурма. К тому же делали её в палатке возле офиса из рук вон плохо. Совсем немного курицы сомнительного качества, а основное содержимое – нашинкованная капуста, которой я всё время давился, перемешанная с острым соусом и ошмётками помидор.
Я отошёл в сторонку, в промежуток между палатками, и принялся жадно есть. Жир вперемешку с майонезом и кетчупом всё время норовил капнуть на футболку, и я осторожничал как мог. Приличных футболок у меня было две шутки.
В дупле зуба застряла упругая, прогибающаяся под языком субстанция. Должно быть, кусок куриного хряща. Выковырять его не получалось, но я помнил, что для таких случаев у меня среди бумаг на рабочем столе была припрятана пара зубочисток.
Я доел последние кусочки, буквально выгрызая их из налитого мерзкой жирной жидкостью пакета. Чуда не произошло. Огромная грязно-жёлтая капля приземлилась мне на колено, оставив на джинсах длинный неровный след. Я как мог оттёр её салфеткой, но настроение сильно упало. Других джинсов у меня не было.
Я двинулся к офису. Прошёл в калитку из чугунных прутьев, поднялся на крыльцо. Вокруг двери боковым зрением заметил несколько табличек с золотыми буквами. Пожилой охранник в чёрной униформе слегка пошевелился в своём закутке, когда я проходил мимо, но не соизволил даже открыть глаза, а только причмокнул губами и сполз чуть ниже в кресле.
Лифт не работал. Я зашагал по лестнице наверх. На четвёртом этаже приложил к считывателю у двери пропуск и вошёл. Помещение было плотно забито столами, за каждым из которых, вглядываясь в монитор, кто-то сидел. Если присмотреться внимательнее, можно было догадаться, что раньше здесь был огромный актовый зал. Убрали сцену, поставили перегородки, проложили сетевые кабели и электричество под фальш-полом – и теперь это слегка напоминало офис. Или конюшню, пожалуй, с крохотными стойлами для людей.
Я направился на своё место – в дальний справа угол, но меня окликнул худой паренёк в очках и с длинными волосами, занимающий ближний к двери стол. Я не помнил, как его звали. Гриша, что ли? Вроде как секретарь и отдел кадров в одном лице.
– Эй! – сказал он. – Отмечайтесь с обеда.
Я совсем забыл об этом нововведении. Склонился над тетрадкой, лежащей на столе Гриши… А, нет, он же Гоша. Точно. Нашёл свою фамилию, записал время прихода, поставил подпись. Потом продолжил путь к своему компьютеру. Чуть не столкнулся с Пашей Краматорским.






