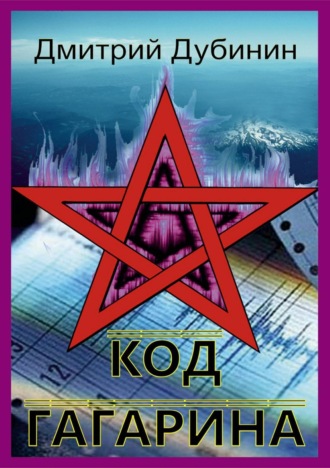 полная версия
полная версияКод Гагарина
– Возможно, – согласился я, изобразив несколько вымученную улыбку. Я плохо понимал, как вести себя с этой женщиной. Нельзя сказать, что она меня пугала или ставила в неловкое положение, но наедине с ней я чувствовал себя не в своей тарелке… В чужой кастрюле, если быть точным. Сейчас прихлопнет сверху крышкой и поставит на плиту. Потом сожрет как кролика. Вот ведь рыжая лиса… Но при этом – нельзя не признать – чертовски интересная женщина.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Комментарий Михаила: я тоже читал книгу Геннадия Ратаева о «московском лесе». Его исследования показались мне не слишком глубокими, но весьма любопытными. Они входили в противоречие со многими широко известными «каноническими» пунктами в истории, но факты – вещь упрямая, как говорили мои коллеги еще во времена Тайной канцелярии…
«…Впервые это название замка – «Mosselvas» – мы встречаем в поэме «Парцифаль», принадлежащей перу поэта-тамплиера Вольфрама фон Эшенбаха и созданной в конце третьей четверти XII века. Именно это же название упоминает и Матвей Меховский – польский историк и географ эпохи Ренессанса, профессор Краковского университета, придворный врач и астролог короля Сигизмунда I. Автор медицинских и исторических сочинений, но в первую очередь – величайший картограф того времени. В переводе с латыни «Mosselvas» значит «мужской лесной». «Лесной». Запомним это слово. И подумаем над первой частью названия таинственного замка.
Само слово «Москва» обычно никак не переводят на современный русский язык. Утверждение, что некие безымянные «британские ученые» якобы ведут происхождение названия нашей столицы от старофинского словосочетания не то «коровья вода», не то «медвежий берег», не выдерживает критики. В латинских манускриптах встречается слово «Mosqa», имеющее, в свою очередь, арамейское происхождение и означающее «мужской союз», «объединение», «братство», наконец, «монастырь». Происхождение слова «маскулинный» ведется оттуда же. Матвей Меховский в своих трудах называл жителей Московии «москами». Москва, точно также как Рим, Константинополь и Иерусалим, стоит на семи холмах. А наличие семи холмов еще в ветхозаветные времена утверждалось одним из почти необходимых условий для того, чтобы на этом месте было заложено крупное святилище, предпочтительно с развитой инфраструктурой. Город-храм.
Излучина некогда безымянной Москвы-реки – не слишком очевидное место для спонтанного возникновения большого русского города. Следовательно, вполне можно предположить, что начало Москве было положено некоторыми внешними, «международными» акторами. Есть неподтвержденные данные, что Москву начали строить еще в IX веке, но все же первым достоверным летописным упоминанием считается указание Ипатьевской летописи на субботу 4 апреля 1147 года, когда ростовский и суздальский князь Юрий Долгорукий принимал на берегу небольшой тихой реки своих друзей и союзников из Западной Европы. С момента возникновения ордена тамплиеров прошло около 30 лет – вполне вразумительный срок. Тогда Москва была не более чем пограничной княжеской усадьбой. Заставой. Нет доказательств тому, что в ее постройке принимал хоть какое-то участие лично князь Юрий. Тем более, нет свидетельств и тому, что Москва была его резиденцией. А вот друзьями и союзниками Долгорукого в те годы были прибывшие «от немец» рыцари ордена Храма Соломона – тамплиеры, также известные как «храмовники». Нельзя отмахнуться от того факта, что буквально за несколько десятков лет Москва из заставы превратилась в крепость с церквями и монастырями – об этом говорят разные, независимые одна от другой летописи. Вспомним, что кроме всего прочего, тамплиеры прославились тем, что активно строили и развивали города во всех местах, докуда могли дотянуться. А по пути «из варяг в греки», рядом с которым возникла Москва, сравнительно несложно было добраться от Палестины, места тогдашней штаб-квартиры храмовников, до севера Европы. В свою очередь, от Москвы можно было добраться и еще до ряда удаленных мест в Евразии. Заселенных в основном татарами.
Свидетельств тому, что европейские рыцари разных орденов, включая и тамплиеров, бывали в Золотой Орде еще во времена Батыя, вполне достаточно. В любом случае, путь из Европы в Золотую Орду лежал через Москву. Тамплиеры поддерживали спорадические деловые отношения с ордынскими ханами, но рыцарям нередко приходилось и сражаться с азиатскими захватчиками на стороне русичей.
Хан Аб-уль-Гази, автор «Истории Татар», сообщая о событиях кампании Батыя 1237-1238 годов, так рассказывает о взятии Москвы:
«Московиты и друзья их франки сделали окоп и крепко бились из него. Батый простоял сорок дней и ничего не мог сделать, пока не подошел его брат Шейбани с 60 000 войска. Увидев множество наших, московиты и франки бросили окоп и бежали в лес».
В лес. В те годы семь московских холмов были покрыты очень густыми лесами. Деревья постепенно вырубались – понятно зачем: подавляющее большинство сооружений тогдашней архитектуры было основаны именно на древесине. Дерево шло на баржи и телеги, дровами топили многочисленные печи… Но к моменту монгольского нашествия в окрестностях Москвы лесов было еще великое множество. Так что название «Моссельвас» оставалось вполне оправданным вплоть до позднейшего средневековья.
В русских летописях без особых подробностей рассказывается о взятии Москвы Батыем, однако некоторые фразы весьма примечательны, например: «безбожные Москву пожгоша и воеводу Филиппа Няньку убиша». Кто такой этот Филипп и что это за фамилия такая – «Нянька», летописные тексты умалчивают. Между тем Филиппом звали известного «франкского» рыцаря, возможно даже, паладина, который был выходцем из Нанси – столицы Лотарингии, где находилась крупная штаб-квартира тамплиеров. Русские летописцы вполне могли из «Нанси» сделать «няньку». Не надо забывать, что дьяки-писари выходили из русского народа, язык которого был всегда необычайно гибок, порой излишне. Злой сборщик податей времен татарского ига, к которому соплеменники почтительно обращались «бабай-ага» получил в нашем народе имя «баба-яга», которая забирает непослушных детей. Так что здесь мы имеем дело с похожим искажением иностранного слова – в данном случае, фамилии рыцаря, одной из ключевых фигур в истории тамплиеров.
Прежде чем стать столицей светского государства, Москва длительное время была опорным пунктом, или комтуром, тамплиеров, который иногда еще называли «госпиталем». Хотя, конечно, к храмовникам госпитальеры имели довольно отдаленное отношение. И, по некоторым данным, находились в конфронтации к своим «братьям во Христе», чья успешная финансовая деятельность и все увеличивающееся состояние ордена вызывали зависть и раздражение у конкурентов; но в особенности – у светских и духовных правителей, включая как королей, которые были постоянными должниками тамплиеров, так и папскую курию, встревоженную излишней независимостью храмовников.
22 сентября 1307 года Королевский совет принял решение об одновременном аресте всех тамплиеров, находившихся на территории Франции. Приготовления к этой беспрецедентной для тогдашнего времени операции велись три недели в строжайшем секрете. Королевские чиновники, командиры военных отрядов, а также местные инквизиторы до последнего момента не знали, что им предстояло совершить: приказы сверху рассылали в запечатанных пакетах, которые предписывалось вскрыть лишь в пятницу, 13 октября. Тамплиеры были захвачены врасплох.
Обвинения, выдвинутые инквизицией против тамплиеров с подачи папы Климента V и короля Филиппа IV, были, как то часто случалось в Средние века, нелепы, вздорны и смехотворны. Практически по всем пунктам храмовники обвинялись в идолопоклонничестве, что в те годы, мягко говоря, не приветствовалось. Рыцари якобы поклонялись живым котам, засушенным головам и смоленым веревкам.
Уже многим позже тамплиерам начали приписывать ересь Бафомета – козлоподобного демона, который сегодня отождествляется с образом дьявола и де-факто является символом церкви сатаны. Этого обвинения, кстати, никогда не было в официальном списке, однако оно очень понравилось нечистоплотным историкам, а впоследствии его подхватили и раздули еще менее чистоплотные журналисты. А уже с их подачи беллетристы и (позднее) кинематографисты не раз и не два упоминали Бафомета в связке с тамплиерами, и это постепенно привело к тому, что в среде неспециалистов утвердилось мнение, что храмовники поклонялись нечистой силе вообще и Бафомету в частности.
Что, конечно, является полнейшим вздором.
Некоторые исследователи, говоря о роковой для ордена пятнице тринадцатого, заявляют, что сведения о грядущих репрессиях до руководства тамплиеров каким-то образом сумели дойти. Не вполне только понятно, почему многие высокопоставленные чины ордена, в том числе великий магистр Жак де Моле и генеральный визитатор Гуго де Пейро предпочли сдаться королевской охранке, вместо того, чтобы бежать, пока была такая возможность. Еще более странной кажется версия, что истребляемые тамплиеры умудрились вывезти состояние ордена из Франции, но отдали многих рыцарей, включая орденскую верхушку, на растерзание властям. Превалирующая доля сокровищ ордена европейским королям и римским папам и так не досталась, но кто тогда смог приобрести несметные богатства храмовников? Обратимся к фактам.
Факт первый. Одновременно с началом репрессий имущество тамплиеров вывозится из Парижа и доставляется в порт Ла-Рошель, где грузится на 18 галер, отбывающих в неизвестном направлении. Все это производится в весьма большой спешке. Но КЕМ вывезено и по чьему распоряжению – тут сведения очень туманны. Говоря точнее – информации об этом попросту нет. Никакой.
Факт второй. В 1307 году князь Юрий Данилович Московский находится в Новгороде и вместе с местным архиепископом и другими официальными лицами встречает заморских пилигримов, прибывших на 18 (!) «набойных насадах» (парусно-гребных кораблях, то есть, галерах). К сожалению, место высадки европейских гостей (и выгрузки кораблей) нигде не зафиксировано. Это вполне понятно – ведь миссия была не из самых простых и явно не требовала широкого «освещения».
Факт третий. Примерно в течение 20-30 лет Москва испытывает настоящий строительный бум, поистине взрывной рост и, кроме того, становится столицей русской церкви, а также местом постоянного пребывания митрополита всея Руси. Из монастырской крепости примерно к 1340 году Москва окончательно превращается в великое княжество.
Еще один любопытный факт. Именно в XIV веке название нашей страны «Русь» трансформировалось в «Россию». Происхождение слова «Русь» уже можно сказать, точно доказано (если в такой науке, как история, можно вообще говорить о точных доказательствах), и нет смысла повторять все теории и гипотезы. Лучше подумаем, почему «у» превратилась в «о», и что послужило толчком для подобной «европеизации» имени государства? До Петра Великого и «окна в Европу» еще оставалось прилично времени.
Из летописей известно, что именно в те годы имел место массовый приезд в Москву «служилых людей» – европейских воинов-христиан. Эти рыцари («на коне в доспехе полном»), которые прибывали в основном через Литву, и были теми таинственными личностями, прибравшими к рукам богатство тамплиеров…
Итак, кто же вывез сокровища храмовников на Русь и вложился в строительство будущей столицы нашего государства? Сами тамплиеры? В разгар арестов и конфискаций они никак не могли это сделать. Ватикан? Учитывая, что католицизм не получил распространения на Руси, отметем эту версию как ни с чем не сообразную. Корона Франции? Более чем сомнительно. Очевидно, в дело вмешалась мощная третья сила. Госпитальеры? Теплее, но все равно мимо. Ибо не было на Руси госпитальеров.
Ненадолго переместимся в недалекое от тех лет будущее. Перед нами Российская империя и династия Романовых. Так какие же общественно-политические организации наиболее радушно привечались тогда в России, и куда были вхожи практически все русские государи-императоры?
Я говорю о масонских ложах. Масонами нынче пугают детей и интеллигентов; наверное, тому есть основания. Да, среди тайных обществ были весьма одиозные. Но были и прогрессивные. Розенкрейцеров, кстати, можно отнести к последним, тем более, они не в полной мере являлись масонами; во всяком случае, в традиционном представлении.
Розенкрейцерский Орден был основан в 46 году от Рождества Христова, то есть, в тот период, когда масонство еще не могло быть сформировано. По легенде, александрийский мудрец-гностик Ормуз и шестеро его сторонников были обращены одним из апостолов Иисуса, Марком. Их символом, как утверждается, был красный крест, увенчанный розой, что указывает на древний символ «Роза-Крест». Розенкрейцерство зародилось на Ближнем Востоке путем очищения так называемых «египетских мистерий» высшим учением раннего христианства. А значительно позже, уже в Европе, ассоциация Креста и Розы основала свою «штаб-квартиру» в португальском монастыре Ордена Христа, вытеснив правопреемников тамплиерского ордена с территории Португалии. Весьма сомнительно, что розенкрейцеры явно помогали римскому папе и французскому королю истреблять храмовников, но нетрудно предположить, что именно рыцари Розы и Креста прибыли в Москву с выморочными деньгами. Скорее всего, они обманули и тамплиеров, и Климента V, и Филиппа IV.
Роза… На десятках языков это слово пишется и произносится именно так: «Rosa». Всего лишь на две буквы отличалось название сакрального символа от названия территории, в главном городе которой начали хозяйничать розенкрейцеры, занявшие нишу тамплиеров. Так наша страна, тогда все еще сильно раздробленная и раздираемая, рассталась со своим славянским именем, полученным ею от названия населяющего ее основного этноса – русичей, и нареклась европейским словом, однокоренным с «розой» – Россия.
Нет смысла ни превозносить, ни демонизировать деятельность розенкрейцеров, тем более что они не мешали великим русским (российским) князьям в деле объединения земель вокруг Москвы. Но и не сказать, что сильно помогали. Хотя и вложили немало средств в развитие империи, пусть даже это и не было их основной целью».
* * *
Эльвира (которая, как я убедился, тоже читала труды своего бывшего) все-таки меня обрадовала. Она мне позвонила сама, чем еще и удивила несказанно. Это произошло в тот же день, где-то после обеда, когда я возился с двигателем, устраняя мелкие проблемы, пока они не превратились в крупные. Пришлось раскошелиться еще на один тощий букетик.
На этот раз меня приняли в «Серватисе» гораздо радушнее. Анюта даже привстала, белозубо улыбаясь. Доктор Дамир Дзадоев (на его бейдже ярко выделялись три буквы «Д») пожал мне руку и пригласил пройти наверх. По его словам, пациентка просто нуждалась в общении.
Ну что ж, я тоже был не против пообщаться. ДДД приоткрыл дверь в палату и сообщил деликатно: «к вам посетитель».
– Андрей, привет, – донесся до меня женский голос, знакомый, только очень слабый. – Заходи.
ДДД пропустил меня внутрь, а сам закрыл дверь. Причем снаружи. Хороший доктор.
– Привет, Эльвира, – сказал я. И положил хризантемы на тумбочку, не комментируя свои действия.
Да, молодой женщине досталось. Я старался не глядеть на ее похудевшее лицо в темных разноцветных пятнах, обрамленное бинтами. Но постарался улыбнуться. Ободряюще.
– Спасибо, что пришел, – в ее голосе все-таки не было уныния. – Я сожалею, что так все вышло. Извини.
– Не нужно, – сказал я, усаживаясь на табурет. – Меня-то как раз проблемы обошли стороной.
Говоря так, я сильно кривил душой, но не рассказывать же Эльвире всего.
– Я рада, если так… – вздохнула Эльвира. Вздыхала она наверняка не потому, что сочувствовала мне. Впрочем, вряд ли она и радовалась за меня. Однако мне было все равно.
– Таня не смогла прийти? – последовал вопрос.
– Таня в Москве, – ответил я. – Командировка.
– Вот как…
Словом, разговор у нас поначалу не очень клеился. Я по-прежнему полагал, что Эльвире нельзя доверять полностью, а она меня, как и прежде, недолюбливала. Но на тему Геннадия мы сумели достаточно легко переключиться.
– Он ведь занимался в числе прочего средневековой Сибирью, насколько я знаю?
– Да. Хан Кучум и все такое.
– Так что же именно он нашел? Почему его стали преследовать бандиты? – спросил я. Рассказывать том, что нового я узнал о рыцарях и Москве, сейчас было абсолютно неуместно.
– Бандиты? – переспросила Эльвира. И не скажать, что с большим удивлением.
Да, – сказал я. И, вынув фотографию, дал Эльвире в руки. Она приняла снимок и начала внимательно его разглядывать.
– А ведь ты знаешь, я помню этих людей. Они появились уже после того, как его мамочка нас развела. Думала, что это парни из института, но оказалось, что это не совсем так… Так что, возможно, за ним действительно стали приглядывать не самые законопослушные граждане…
– И ведь кто-то еще сделал эту фотографию. И передал ее Вере Павловне. Не ты ли фотографировала?
– Конечно, нет! – произнесла Эльвира, разглядывая снимок внимательно и явно без восторга, наверное, не вполне понимая, как этот снимок попал в руки мамы Геннадия. – Я знаю, кто сделал это фото.
– Кто же?
– Павел, конечно! Все сходится. Он мог взять мой второй телефон, которым мы оба пользовались. И сделал им снимок. Только вот зачем он отдал его мамочке Гены?.. Ты, значит, заходил к ней в гости? Ну и как тебе она?
Я промычал что-то насчет того, что она излишне активно пыталась заниматься делами Гены, про себя же крепко задумался: кто же все-таки врет на предмет этого фото?
– Да так и скажи: курица! Клуша. Вечно растопырит крылья и сидит на нем, как на собственной кладке. Понять была не в состоянии, что Гене давно пора жить своим умом и своей жизнью. Или просто боялась. Боялась того, что он окончательно станет взрослым. Слышала, что у нее три раза был нервный срыв: когда он отрастил бороду и еще когда сказал, что собирается жениться. А в третий раз она даже попала в больницу – это случилось, когда я сняла квартиру, и мы с Геной наконец-то стали жить отдельно от всех. Тогда-то я и стала у нее врагом номер один: украла сына!.. Потом она все-таки частично добилась своего – мы разошлись. Боже, как она бесилась, что мы сохранили более-менее нормальные отношения и продолжали общаться! А потом Гена взял и исчез. Я даже думаю, что он только так мог избавиться от матушкиной заботы. Ну ладно, что-то я не о том говорю… Извини, конечно, мне тогда много досталось.
– Думаю, вам обоим было несладко. Геннадий ведь тоже оказался в дурацком положении – ни самому разорваться, ни вас помирить.
– Да, конечно… Ведь он очень хороший человек, неужели я бы смогла с кем попало жить? Мне трудно однозначно оценить, чем был его побег – Поступком с большой буквы или проявлением слабости? В общем, я бы очень хотела, чтобы он нашелся – пусть бы даже просто дал о себе знать… Но я даже не представляю, кто бы мне сейчас смог помочь… Павла больше нет (веки Эльвиры подозрительно затрепетали)… С Полиной мы компаньонки, не подруги – она ничего толком обо мне не знает… Да и не надо, если уж на то пошло.
Так… Похоже, у меня сейчас будут просить помощи. Ну, что ж – помочь при случае я, наверное, мог бы. Разумеется, в разумных пределах. Вот только кто бы сейчас помог мне?!
– Жаль, что так получилось, конечно, – опять сокрушенно вздохнула Эльвира. – Мне до сих пор стыдно – спать не могу… Перед Таней особенно.
– Я думаю, она на тебя не в обиде, – искренне сказал я. – Ничего страшного. Она тоже желает, чтобы ты поскорее поправилась.
– «Тоже»? – зачем-то переспросила Эльвира.
– А как же? – Я без особого труда изобразил позитивную улыбку. – Пусть у тебя все как можно скорее придет в норму.
– Спасибо… – Эльвира отвела глаза.
Возникла неловкая пауза. Наверное, пока и честь знать?
– Ну что ж, еще раз тебе поскорее выздороветь… А я, наверное…
– Подожди. Покажи мне еще раз эту фотку.
– Да легко… Вот.
Эльвира еще минуту разглядывала изображенных на снимке.
– Вот этот мужик, снятый со спины, вполне мог работать у нас в службе безопасности, – произнесла она.
– Такой шкаф? Что там у вас охранять?
– Ну как же?.. Не «что», а «кого». У нас же там девушки. И клиентки, и мастерицы. Мало ли какой отморозок в девять вечера решит заглянуть в солярий? Да и сейчас у нас сменные охранники внешне не намного отличаются от этого.
– А что значит «мог работать»?
– Да уволили мы его. Выгнали. Выяснилось, что пустили, понимаешь, козла в огород… Излишне озабоченный был товарищ. Но один раз я видела, как они с Геной беседуют. Я просто в шоке была – это все равно что увидеть библиотекаря и грузчика, которые нашли общий язык. Так что, вероятно, это он…
– Как звали, не помнишь?
– Алексей… Александр… Андрей… Нет, сейчас уже не скажу точно.
…Может, это Гуцул? А почему бы и нет – остальная братия ведь вся здесь. Была ли на руке у него наколка с черепом, я не заметил. Но он вроде и не показывал мне внутреннюю сторону запястий.
– Слушай, Андрей, не мог бы ты мне оставить эту фотографию? – продолжила Эльвира. – Мне кажется, что я видела и остальных. Сейчас я неважно соображаю, голова сильно болит, думать трудно… Может, вспомню еще что-то…
– Конечно. Оставлю. Ну, тогда я пошел, хорошо? Не буду тебя утомлять…
– Еще минутку… Андрей, все-таки, вдруг там твои американцы тоже какое-то отношение имеют к поискам Гены… Если вдруг ты узнаешь что-то, может, сможешь помочь мне его отыскать?
– Если узнаю, почему бы нет…
– Заранее тебе спасибо…
Мы произнесли еще несколько банальных фраз, и я откланялся. Что ж, от Эльвиры я действительно услышал просьбу. Вполне понятную, но явно не слишком уж легко выполнимую. Я залез в машину, запустил двигатель и посмотрел на часы. Так, сейчас в ДК имени Островского должно идти собрание известной мне церкви. Не сгонять ли туда?
Трудно сказать, чего я ожидал, но в знакомом холле дворца культуры все было примерно так же, как и в тот день, когда мы сюда впервые пришли с Татьяной. Аккуратные и в основном молодые люди, с одухотворенными лицами и цитатами из всех четырех Евангелий. Я некоторое время приглядывался, пытаясь определить лидера среди собравшихся. И, похоже, я его увидел. Пара сравнительно молодых «ветеранов» обоего пола обрабатывала парнишку лет 16, а у того уже и глаза в разные стороны смотрели. А вот в какую сторону в реальности смотрит антисектантский комитет, это ведь действительно вопрос. Я дождался, когда «ветераны» закончат проводить борьбу за ум и душу юного кандидата в неофиты, после чего подошел к ним и вежливо поздоровался.
– А, так вы, наверное, в первый раз пришли на наше собрание? – оживился «ветеран», серьезный на вид человек лет двадцати двух-двадцати четырех. – Как впечатление?
– Я здесь не первый раз, и не про впечатления хотел бы с вами поговорить, – принял я сухой тон.
Евангелист открыл рот, наверное, чтобы возмутиться или уличить меня в религиозной слепоте, но передумал. Видимо, я на самом деле не выгляжу как человек, запутавшийся в духовных исканиях.
– Давайте отойдем, – предложил он, поняв, что дело серьезное. – Вы о чем хотели меня спросить?
Его спутница, возможно, была не особенно довольна этим поворотом дела, но промолчала. Мы переместились из центра холла к одной из его зеркальных стен, и я сказал:
– Дело в том, что я неплохо знал Павла Столярова… И знаю, что с ним случилось.
– Да, – евангелист возвел очи горе. – Павел был прекрасным человеком и глубоко верующим христианином. Я не сомневаюсь в том, что сейчас он видит и слышит нас здесь.
У меня на этот счет было несколько иное мнение, но я не стал его навязывать. Не тот случай, сами понимаете.
– Мне бы хотелось… – я замялся, думая, как бы выразиться не слишком банально, но и достаточно понятно. – Отдать ему последние почести. Не подскажете ли, когда и где похороны?
– Но ведь вы же говорите, что были его другом, – слегка насторожился молодой человек. – Кстати, можно узнать ваше имя?
– Андрей… А к вам как можно обращаться?
– Зовите меня Игнат.
– Так вот, Игнат, я не сказал, что был его близким другом. Мы были неплохо знакомы, общались по-приятельски, делились некоторым опытом… Я даже знаю, что он фактически руководил вашей общиной в регионе. К сожалению, я периодически выезжаю из города, поэтому узнал об этой трагедии слишком поздно. И потому сегодня хотел спросить о времени и месте церемонии.
– Ну, значит, вы действительно что-то знали про Павла, – констатировал Игнат. – Но, к сожалению, вы немного опоздали. Церемония прошла позавчера. Павла кремировали.
– Даже так?
– Да. Но тут ничего удивительного – истинное христианство никогда не было против кремации. У нас многие считают, что «классические» похороны с закапыванием в землю – это варварский пережиток.
С этим я тоже спорить не стал.

